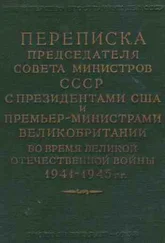Задуманное русское издание резко изменило внутреннюю географию Цвейга: он принадлежал к поколению, которое, пройдя через войну 1914 года, впервые в истории соприкоснулось с представлением о глобальном мире. Эта война открыла ее участникам мир, и в этом мире Россия занимала теперь полноправное место, она стала полноценным объектом интеллектуальной рефлексии, провоцирующим оценку, от вектора которой зависело самопозиционирование внутри интеллектуальной среды. В том кругу, в который Цвейг вошел в годы войны, оказавшись в нейтральной Швейцарии, где сложился свой наднациональный «мини-мир», — в этом кругу, в обстановке некоторой оппозиционности, которая всегда придает остроту писательскому образу, сложился свой словесный этикет, в котором ключевыми понятиями были «пацифизм» и «Толстой», а вместе с Толстым и Россия. В логике той части военного поколения, которая прошла через войну вместе с Толстым, а после войны открыла для себя Достоевского, признание в России, независимо от наличия или отсутствия симпатий к этой стране в ее тогдашнем состоянии, почти автоматически прочитывалось как мировое признание. Не случайно именно после получения предложения издать собрание сочинений в России Цвейг в своих письмах все чаще сетует на провинциальность австрийской культуры, в которой ему становится слишком тесно. Он начинает видеть себя масштабным деятелем общеевропейской культуры, воплощением европейской идеи, и сочтет необходимым проинструктировать в этом ключе Рихарда Шпехта, которого попросит написать предисловие к русскому изданию: «Если позволишь, я выскажу одно пожелание: мне хотелось бы, чтобы ты в этом очерке, говоря о моей деятельности, сильнее, чем обычно об этом пишут, подчеркнул мое первенство, потому что оно, став фактом истории, уже давно забыто. Я имею в виду, например, моего "Иеремию", первое художественное произведение, написанное в годы войны против войны, далее то, что мое совместноевыступление с французом Жувом в Цюрихе в 1917 году по силе своего воздействия превосходит все нынешние мероприятия, направленные на примирение, затем мою книгу о Верхарне, которая одновременно вышла во французском и английском переводе и в которой впервые было обосновано мировое значение Верхарна, что было новым не только для Германии, но и вообще, и то же самое относится к моей книге о Роллане, которая благодаря переводам на английский, японский и т.д. вышла за пределы Европы. Для России же важно то, что моя статья о Достоевском стала первойкрупной немецкой работой о нем и что с этой статьи начинается вся литература о Достоевском, кроме того, моя статья об Оттокаре Брежине стала первой статьей о нем, представившей этого славянского писателя миру. Эта объединяющая деятельность представляется мне такой же важной частью моей работы, как и мое творчество. В ней, как и в моем творчестве, находит свое выражение моя связь со временем и миром. В ней я вижу в некотором смысле преодоление венского духа в пользу европейского» [26] Zweig S. Briefe. 1920-1931. Hrsg. von Knut Beck und Jeffrey B. Berlin: S. Fischer Verlag, 2000. S. 174-175.
. Здесь много преувеличений и не совсем точной информации, но как «автопортрет» эта развернутая самохарактеристика Цвейга весьма показательна: собрание сочинений для него оказывается важным не только само по себе, но и как возможность смоделировать свой образ — образ человека мира. Само же собрание, благодаря «правильно» подобранному обрамлению, предстает как факт наднациональной культуры: Горький, Шпехт, Мазареель, Луначарский и — чуть в тени — Роллан, — свой тесный круг, сложившийся уже давно поверх всех границ и чуть стилизованный под боевое товарищество.
Издательство же, подбирая обрамление или соглашаясь на предложения Цвейга в этой части, руководствовалось совсем другими соображениями: Горький, известный покровитель начинающих писателей, был приглашен, чтобы представить читателю мало известного автора [27] См. статью К.М. Азадовского в настоящем сборнике.
, Мазареель — потому что «революционный» и «левый», Луначарский — потому что влиятелен и к тому же опытен в представлении «буржуазных» писателей, которых он так умело критикует и хвалит, сохраняя нужный баланс, к тому же его участие позволяло надеяться на нейтрализацию Госиздата, с которым Луначарский был напрямую связан и по долгу службы, и по своей литературной работе. Чуть позже к участию в издании будет приглашен А.В. Десниций (1878-1958) для написания предисловий, игравших такую важную роль в советских изданиях, а при издании в 1931 г. тома, в котором публиковался роман-биография Жозефа Фуше, на помощь будет призван историк А.Е. Кудрявцев (1878-1941) для «правильной» интерпретации небезопасного материала, который помимо воли автора легко экстраполировался на советскую действительность. Этот том, вышедший уже после ареста И.В. Вольфсона, был, похоже, единственным проблемным томом с точки зрения цензурности: все, что касалось Французской революции, привлекало к себе особо пристальное внимание властей, тем более, что Цвейг в своей работе опирался на исследования Луи Мадлена (Louis Madelin,1871-1956), который, как считалось в Советском Союзе, оклеветал французскую революцию. И тем не менее после некоторых проволочек том вышел из печати, а через год, в 1932 г., был переиздан.
Читать дальше