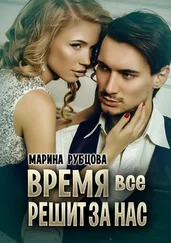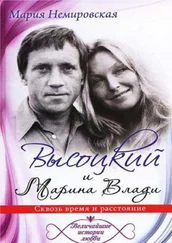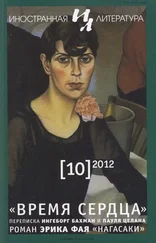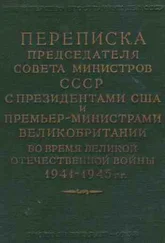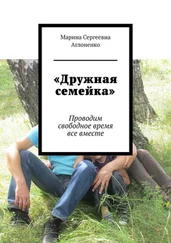. Вполне понятно, что при таком способе ориентации в европейском книжном пространстве в редакции попадало множество случайных книг, и «Время» в этом смысле не было исключением: наряду с яркими новинками современной западной беллетристики в списках отрецензированных книг обнаруживается множество книг-однодневок никому неизвестных авторов. Для просеивания этого потока привлекались внутренние рецензенты. Чтением немецких книг в издательстве «Время» с момента его основания до самого начала 1930-х гг. занималось три человека: Н.Н. Шульговской (1880-1933), В.А. Зоргенфрей (1882-1938) и Р.Ф. Куллэ (1885-1938) — все люди опытные, имеющие отношение к западной литературе и переводу. Позднее, когда состав редакции начнет меняться, рецензировать Цвейга будет бывший сотрудник «Всемирной литературы», писатель и переводчик П.К. Губер (1886-1941), а самую последнюю рецензию (1933) напишет партийный деятель и публицист В.А. Быстрянский (1886-1940).
Книга Цвейга «Первые переживания», предложенная П.С. Бернштейн, была отдана на рецензию в ноябре 1924 г. Н.Н. Шульговскому, который отозвался о ней весьма благожелательно [8] См. Приложение № 1.
, и уже в 1925 г. издательство выпустило ее в свет, не видя никакой необходимости связываться по этому поводу с автором, поскольку действовавший тогда в Советской России закон об авторском праве освобождал издателя от каких бы то ни было обязательств по отношению к переводимому писателю. К этому моменту имя Цвейга в советской России было мало кому известно. Несколько публикаций [9] Кроме уже упомянутых двух сборников издательства «Атеней» к моменту обращения Цвейга в издательство «Время» в советской России были изданы: Цвейг С. Легенда одной жизни. Пьеса в 3 актах. Перевод И.Б. Мандельштама. Предисловие А.Г. Горнфельда. М.; Пг.: Госиздат, 1923; Цвейг С. Ромэн Роллан. Перевод с нем. проф. Г. Генкеля. М.; Пг.: Гос. Изд., 1923; Цвейг С. Глаза убитого [брата]. (Рассказ). Перевод Л.Н. Всеволодской. М.: Солнце, 1925.
не меняли общей картины: о нем особо не писали, никто его не продвигал, да и материала для продвижения было не так уж и много — главные книги Цвейга были еще впереди. С идеологической точки зрения он интереса не представлял, коммерческий интерес еще только-только обозначился — сборник «Амок» позволял надеяться, что автор может оказаться успешным. Для издательства «Время» Цвейг был одним из многих: среди его «конкурентов», входивших в рабочий список издательства, были Томас Манн, Генрих Манн, Макс Брод, Герман Гессе, Артур Шницлер, Якоб Вассерман, Густав Мейеринк, Рене Шикле [10] См. внутренние издательские рецензии: РО ИРЛИ, ф. 42 (архив издательства «Время»).
, с некоторыми из которых «русскому» Цвейгу на том этапе конкурировать было трудно. И если бы сам Цвейг не проявил инициативу, то его русская судьба могла бы сложиться совсем иначе.
Для Цвейга известие о том, что в России выпущен сборник его новелл, стало событием [11] См. подробнее статью К.М. Азадовского в настоящем сборнике.
. В свои сорок четыре года он отнюдь не избалован славой: его имя, конечно, известно, оно то и дело мелькает на страницах газет, где он регулярно публикует свои новеллы или статьи по случаю. Его литературная деятельность разнообразна — поэт, переводчик, эссеист, драматург, новеллист, но слишком часто он оказывается в тени тех, кому отдает свои литературные силы. Он пишет о Верхарне и издает его стихи, он пишет о Верлене и снова издает стихи, он пишет очерки о великих (о Бальзаке, Диккенсе и Достоевском, о Гельдерлине, Клейсте и Ницше) и тех, кого он сам считает великими (о Ромене Роллане и Марселине Деборд-Вальмор), умножая за их счет свой литературный капитал. Для литературного пространства за пределами Австрии и Германии, однако, эти работы с издательской точки зрения вторичны и потому их начнут активно переводить на другие языки несколько позже, когда за Цвейгом уже закрепится репутация новеллиста-психолога, а сам он откроет для себя жанр беллетризованной биографии, позволяющий, впрочем, все так же прятаться за «большими» именами и одновременно использовать инструментарий психологического исследования, с успехом опробованный им в малой прозе. Сам Цвейг придает необычайное значение переводам своих произведений на другие языки. Для него это прежде всего знак подлинного признания, знак выхода на европейскую, на мировую литературную арену. Он не только внимательно отслеживает появление публикаций своих текстов в переводах, но и сам прилагает усилия к их появлению, завязывая и поддерживая отношения с переводчиками в других странах. Установление контакта с русским/советским издательством и предложение издать следующий сборник, который тогда еще только находился в работе, — последовательный шаг на пути создания своей «европейской» биографии.
Читать дальше