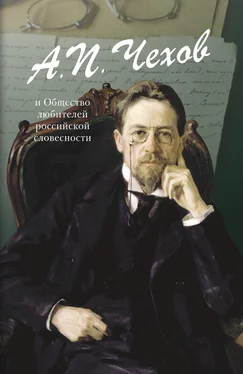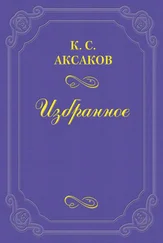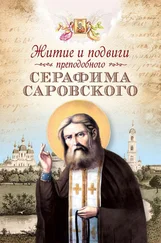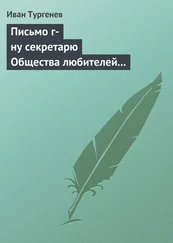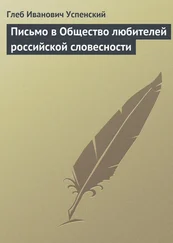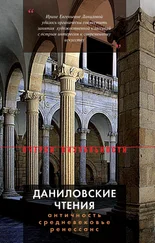Оттого пошлость и была лютым врагом чуткого, безостановочно-духовного и творческого Чехова. В течение всей своей недолгой жизни он, как писатель, боролся с ней; она гналась за ним по пятам, и он постоянно слышал за собой её тяжёлое, её мёртвое дыхание. Её не избыть, от неё не оградиться. Вот на Святках мать диктует Егору, отставному солдату, письмо к дочери и зятю, и она хочет, страстно хочет излить все свои лучшие материнские чувства, послать своё благословение, сказать самое ласковое, дорогое, заветное, – а Егор, «сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, сидит на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затыл-ком», сидит и пишет – что он пишет! «В настоящее время, как судьба ваша через себе определила на Военное Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Военных Дисциплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цывилизацию Чинов Военного Ведомства» [С. 10, 184]…Вот Андрей, «охваченный нежным чувством», сквозь слёзы говорит своим сёстрам: «Милые мои сёстры, чудные мои сёстры! Маша, сестра моя», – а в это время растворяется окно и выглядывает из него… пошлость, выглядывает Наташа и кричит: «Кто здесь разговаривает так громко?… Il ne faut pas faire du bruit, la Sophie est dormée déja. Vous êtesun ours» ( франц .). [С. 13, 182] Вот идёт архитектор под руку с дочерью, милой девушкой, и говорит ей о звёздах, о том, что даже самая маленькая из них – целые миры, при этом он указывает на небо тем самым зонтиком, которым давеча избил своего взрослого сына. Безутешная мать, у которой убили единственного ребёнка; но священник, «подняв вилку, на которой был солёный рыжик, сказал ей: „Не горюйте о младенце. Таковых есть царство небесное“. Пошлость разнообразна. Её не перечислишь, её не уловишь.
Только от девушек веет нравственной чистотой, и многие сохраняют её навсегда; светлые женские образы встают перед нами в произведениях Чехова, обвеянные лаской, какой они не знали со времён Тургенева; и, может быть, среди них, в кругу милых трёх сестёр, которые стали нашими общими сёстрами, около тоскующей чайки, Анюты из «Моей жизни» и Ани из «Вишнёвого сада», меркнут все эти попрыгуньи, супруги и Ариадны, напоминающие своей холодной любовной речью «пение металлического соловья», и эта дочь профессора из «Скучной истории», которая когда-то девочкой любила мороженое, а теперь любит Гнеккера, молодого человека с выпуклыми глазами, молодого человека, олицетворяющего собою пошлость…
Обыватели пошлого города, граждане всесветной глуши, или уживаются, мирятся с обыденностью, и тогда они счастливы своим мещанским счастьем, или они подавлены ею, и тогда они несчастны, тогда они – лишние, обойдённые. Но большинство счастливы, и на свете, в сущности, много довольных людей, и это на свете самое печальное. В тишине вялого прозябания они мечтают о своём крыжовнике, и они получают его; кислыми ягодами крыжовника отгораживаются они от остального мира, от мира страдающего, и не стоит у их дверей человек с молоточком, который бы стучал, стучал и напоминал об окружающей неправде и несчастье. Были и есть люди с великими молоточками слова – Чехов принадлежит к их благородному сонму; из-за них человечество не засыпает окончательно, убаюканное шумом дней, довольное своим крыжовником. Но многие, многие сидят в своих футлярах, и никакое слово не пробудит их от вялой дремоты. Они робки и боятся жизни в её движении, в её обновлении. Впрочем, страх перед нею, страх перед тем, что она «трогает», конечно, ещё не влечёт за собою нравственного падения. В русской литературе есть классическая фигура человека, который пугался жизни, бежал от неё под защиту Захара, на свой широкий диван, – но в то же время он был кроток, нежен и чист голубиной чистотою. Пена всяческой низменности клокотала вокруг Обломова, но к нему не долетали её мутные брызги. А Беликов, который тоже смущался и трепетал перед вторжением жизни, через это впадал не только в пошлость, но и в подлость. И вот почему на могилу Обломова, где дружеская рука его жены посадила цветущую сирень, русские читатели до сих пор совершают духовное паломничество, а Беликова, говорит рассказчик, приятно было хоронить. Правда, Чехов совсем не убедил нас, что ославленный учитель греческого языка должен был в силу внутренней необходимости от своего страха перейти к доносам и всяческой низости. Этого могло и не быть: боязнь жизни и робкое одиночество совместимы с душевной чистотою. «Человек в футляре» вообще произведение слабое; напрасно и не без вульгарного оттенка издеваясь над тем, что Беликов умилённо произносит чудные для его слуха греческие слова, рассказчик совсем упустил из виду то мучение, которое должен был переносить человек, всего боявшийся и страдавший бредом преследования. Но зато на многих других страницах Чехов, к сожалению, слишком убедительно показал своих горожан в презренном ореоле трусливости и мелочного приспособления к требованию обстоятельств и властных людей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу