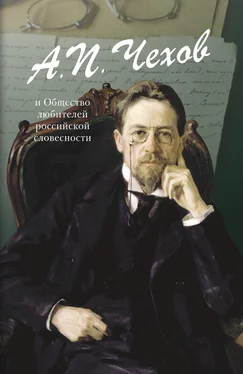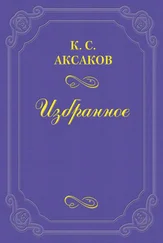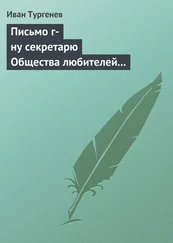Да, Чехов как будто не любил, не понимал дела. Он не любил деятеля, который себя сознаёт и ценит, который хлопочет; он не любил строгой Лиды, которая бедным помогала вовсе не так грациозно и поэтически, как пушкинская Татьяна, и благодаря которой «на последних земских выборах прокатили Балагина». Он не воплотил гармонии между делом и мыслью, и в конце жизни знаменитого профессора, выдающегося деятеля, оказывается, что он не имел общей идеи, бога живого человека, что дух его как будто не участвовал в искусной работе его знаний и таланта. Дело рисовалось Чехову в образе дельца, в неприглядном виде Боркина, антипода Иванову; дело символизировалось для него ключами от хозяйства, кружовенным вареньем, которое столь удобно для экономического угощения и которое, в конце концов, пропадает, засахаривается, как у Варвары из «Оврага». В каждом деле он чувствовал неприятный оттенок хлопотливости и суеты, привкус какого-то шумного беспокойства, которое недостойно медлительной и величавой думы человека. И хозяйству, делячеству он противополагал не деятельность, а безделие. Деловитость весела, жизнерадостна, пошла, как Боркин, или же она тупа своей «бездарной и безжалостной честностью», как доктор Львов или фон Корен, а безделие изящно, меланхолично, грустно, и оно поднимает своих жрецов высоко над суетливой толпою.
Но Чехов и сам чувствовал, как несправедливо такое распределение психологических красок; он сознавал, что не Боркиными ограничивается дело жизни и что далеко не все лишние люди – люди желанные. У него есть и случайные, правда, силуэты настоящих деятелей, – например, не похож на Боркина и не похож на доктора Львова тот, другой, прекрасный доктор из «Беглеца», который своей притворной суровостью трогательно маскировал свою бесконечную доброту и ласку к бедному мальчику Пашке и, вероятно, ко всем бедным мальчикам на свете. И, что ещё важнее, Чехов сам не раз карал себя за своё художественное пристрастие к тоскующим героям безделия и безволия. Ведь это он написал почти карикатурный образ Лаевского из «Дуэли», ведь это у него Иванов горько насмехается над своей «гнусной меланхолией», над игрой в Гамлета. Медленной походкой идёт чеховский Иванов по жизни, и от его мёртвого прикосновения гибнут женщины; земля его глядит на него «как сирота», вся русская земля глядит на него как сирота и ждёт не дождётся его, – а он, ленивый и вялый, позорно жалуется на своё переутомление, на то, что поднял он бремя непосильное и не соблюл душевной гигиены. Он не только лишний. Он не кроток, как лишний Обломов: последний только сам лёг в безвременную могилу, он никого не оскорбил, никого не убил, а Иванов в измождённое лицо своей жены бросил «жидовку» и бросил смертный приговор. И доктор Андрей Ефимович тоже не был деятелен; он много читал, он много думал, но в жизни он не принимал участия и оставался равнодушным зрителем того, что делалось в палате № 6, где над стихийным ужасом люди воздвигли ещё своё искусственное и ненужное страдание, поставили сторожа Никиту, «скопили насилие всего мира». Из-за того, что он не мог одолеть всего зла и насилия в мире, он и в окружающую жизнь не вносил ни крупицы добра, и, когда Иван Дмитрич, великий страстотерпец номера шестого, разрывая жалостью всякое сердце, в минуту просветления мечтательно говорит, что давно уже он не жил по-человечески, что хорошо было бы теперь проехаться в коляске куда-нибудь за город и потом полечиться от головной боли, – Андрей Ефимович в своём преступном неделании, подавленный рассуждениями, не свёз бедного мученика за город подышать весною и не стал лечить его от головной боли… Вообще, Чехов самоотверженно показал в близком ему лишнем человеке всё, что есть в нём отрицательного и жестокого, всё, что есть в нём злополучного для себя и для других. Чехов знает всё, что можно сказать против лишних, – особенно там, где нужны столь многие, где нужно столь многое.
И всё же иные его лишние в основном направлении и настроении своего духа выше полезных. Они погружены в неделание потому, что не спешат воспользоваться жизнью; они созерцают, они думают о ней, они чувствуют её и тихо приближаются к её фактическому содержанию, – а торопливая жизнь между тем ускользает, и они оказываются ненужными, обойдёнными: и вишнёвые сады, и женские сердца переходят в другие, более расторопные и цепкие руки. Жизнь не терпит раздумья, созерцания, мысли; нет, она говорит человеку: «Люби меня без размышлений, без тоски, без думы роковой». И непосредственные натуры жадно приникают к ней своими немудрствующими устами. В этом, быть может, есть особая красота и мудрость, но это вырождается и в животную привязанность к текущей минуте, к заботе и злобе дня; это – источник всякого мещанства, пошлости и рутины. И кто торопится навстречу жизни, тот не станет думать о том, что будет через двести – триста лет, а лишние об этом думают и тем бесконечно возвышаются над жизнелюбивой толпой. Они не расчищают себе дороги в сутолоке человеческого торжища, они не толкаются и не «размахивают руками». Они – аристократы духа, и в них таится благородное наследие датского принца. В траурных одеждах своей «тоски и думы роковой» не спеша идут они среди торопливых и, занятые своим внутренним миром, не замечают пёстрого говора жизни. Воля, направленная на внешнее дело, тихо дремлет у них, зато не умолкает нежное, тонкое чувство, и, «прижавшись к праху в сознанье горького бессилия», они тоскуют по высшей красоте и правде. Они не удовлетворены, и благо им за их великую неудовлетворённость! Они тяготеют к идеалу, к своей нравственной Москве, и если, правда, и не прилагают мощных усилий к тому, чтобы осуществить свои «бескрылые желания», если из-за этого они не деятели, то уже во всяком случае они и не дельцы, не практики. На шумном торжище людской корысти, среди крикливых и суетливых, среди расчётливых и умудрённых они оказываются лишними людьми. Но как «премудрость мира – безумье перед судом Творца» и не Марфа, пекущаяся о многом, а Мария знает единое на потребу, так, быть может, на иную, высшую оценку и эти лишние окажутся наиболее нужными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу