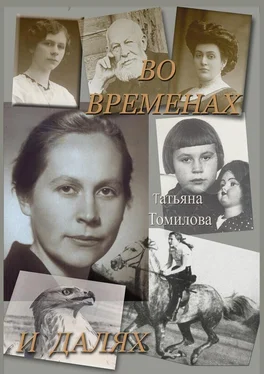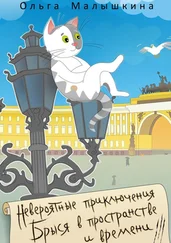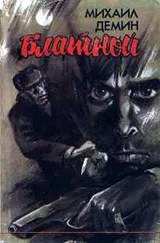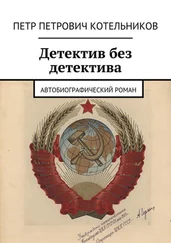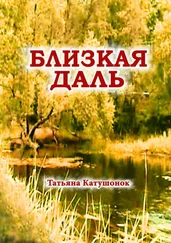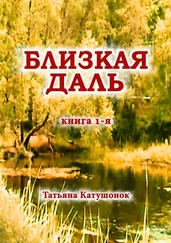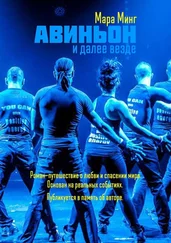Уходя в своих школьных воспоминаниях несколько вперед, признаюсь, что школа меня не увлекала. Безропотно подчиняясь необходимости ее посещения, я порой отвечала «гуманитарное» задание не по учебнику, увлекая слушателей (и себя) когда-то прочитанными и вспомнившимися подробностями. Но с ужасом ожидала встреч с двумя отравлявшими мои школьные и ранние университетские годы (а также – многие сны зрелых лет) дисциплинами – физикой («кинетикой») и органической химией. Всякую четверть по которой-нибудь их них мне грозила двойка, в последний миг как-то исправляемая не без Ритиного возмущенного вмешательства. Голубые плитки ее печки-голландки не раз сверху донизу бывали исписаны вязью химических уравнений. Однако окончательно развеять химический кошмар мне было не суждено. Нанимаемым же репетиторам по физике я не в состоянии была объяснить своих затруднений. Просто не умела мыслить в этом ключе. Удивительно, что на конкурсных экзаменах я умудрилась схватить по физике «пятерку», но, конечно, по иному ее разделу. Прочей математики эти трудности не касались. Да и ныне некоторые бытовые расчеты решаю через «икс». Рита же, до старости лет не научившаяся смирению, более всего негодовала на перенесенную десятилетнюю пытку раннего вставания и муштры. Но училась упорно и хорошо.
В любимицах у меня все же шли науки биологические. Исключением были уроки, на которых наша Антонина Антоновна обещала провести опыты по возбуждению лягушачьей мышцы током, или же – показать внутреннее строение земноводного. Помнится, ей ни того, ни другого сделать так и не удалось – накануне с трудом добытые лягушки неизменно исчезали. К концу уроков, с Ритой на стреме, я шла в кабинет биологии и выхватывала из банки пленницу. Придерживая ее носовым платком в кармане халатика, направлялась к туалету. Там пересаживала лягушку в мешочек и в портфеле уносила домой. Накапливавшиеся переселенки содержались в широкой банке, периодически отмываемой в общественной раковине. По зимнему времени плохо съедаемый мотыль гнил и вонял. В мои загруженные дни, бестрепетно пересадив «лягв» в чистое, мама мыла склизкий сосуд сама. От нее, нетерпимой в вопросах хищения чужой собственности, по этому обстоятельству упреков не помню. С оттаиванием в Ботаническом саду прудов я относила к ним своих пансионерок, моля судьбу более не искушать меня непосильными ситуациями.
Стремилась ли я тогда к чему-нибудь? Скорей всего, желания мои были либо несбыточными, либо недостаточно определившимися. В годы войны взрослые мечтали о мире. Но что бы мог изменить даже «мир» в непробиваемой рутине жизни? Деньги на небольшие личные потребности я получала, толком не зная им цены. А первый опыт их зарабатывания энтузиазма мне не прибавил. Некий гражданин через маму попросил меня перевести с немецкого какой-то технический текст. Задача оказалась сложнее ожидавшейся. Я всегда воспринимала смысл читаемого иностранного текста непосредственно, без потребности «внутреннего» перевода на русский. Здесь же – сразу затруднилась необходимостью подбора грамотного русского эквивалента каждой мысли и фразе. Многого не понимая, не имея словарей, свои скудные свободные часы я вынуждена была проводить над скоро опротивевшими листами. Всякий раз – поражаясь умению портить себе жизнь.
Наконец, накатав перевод с пробелами и вопросами, обратилась к Рите. Она же – выказала к проблеме вполне достойный ее самолюбия интерес. Были взяты словари, остальное доделал характер. К оговоренному сроку вся работа, переписанная Ритиным красивым округлым почерком (он оставался неизменным в течение всей ее жизни), была сдана заказчику. Мы получили двадцать рублей, тут же их разделив. Свою «десятку» я равнодушно отдала маме. Печальная судьба первого моего оплаченного перевода, главным образом, определилась полным отсутствием любопытства к содержанию текста. Самолюбия же, порою поднимавшего голову в близких мне вопросах, эта глубоко чуждая мне область задеть была не способна.
Возвращаясь ко временам дошкольным, вспоминаю, однако, свои праздники не столь одинокими, как описанный выше. На мои дни рождения собиралась довольно веселая компания из квартирных детей, Риты с Мусей, и некоторых «институтских». Для таких случаев тетка запускала нас в «комнаты заседаний». Мы играли в «золотые ворота» (пары пробегали под высоко сомкнутыми, но готовыми мигом опуститься руками), пятнашки, даже – в прятки за гардинами, с предварительными, бесконечной длины «считалками» («На золотом крыльце сидели…»). Прыгали, как умели, под теткин патефон, разваливались перевести дыхание в креслах и на кожаном диване. Много лет над ним висела большая картина, очевидно, графическая копия в духе Семирадского (позднее замененная портретом профессора Павлова). Удивительная по своему содержанию для хирургической клиники, она изображала накал соревнования двуконных колесниц то ли в Элладе, то ли в Риме. Угощались мы за большим заседательским столом, за которым я, в голубом крепдешиновом платьице, чувствовала себя хозяйкой замка…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу