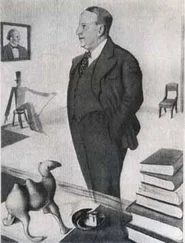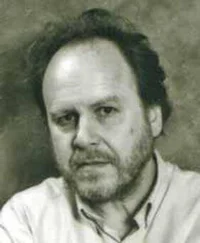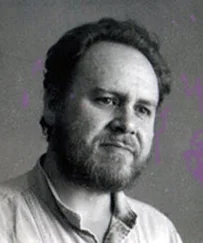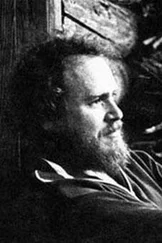В полуэктовской компании я оказался в хвосте. Мой диплом с отличием, красные корочки ЛПИ, на деле стоил недорого. Были в АФИ люди вообще очень талантливые: Лёня Фукшанский, Лёва Гинзбург. Другие — вроде Гиммельфарба и Шитова — отличались хваткой. Ни настоящей одаренности, ни хватки, ни трудолюбия и целеустремленности я не обнаружил. В голове был ветер. Я не хотел взрослеть, не думал о будущем. Я всё еще играл в волейбол за команду политехнического института. Хуже того: я сочинял стихи.
К 1970 году я начал осознавать: в большие ученые мне не выбиться. Над уравнениями скучал. Мучался этим. Не понимал, что музы ревнивы — и редкому угождают две из них (а когда угождают, то одна смеется над другою — как в случае Ломоносова и Гёте). Это ли вызвало у меня разочарование в науке или тут была обратная причинно-следственная связь? Выбираю невыгодный для себя ракурс: виноград зелен. Не смог, оттого и разлюбил. Конечно, всегда можно сказать, что работать мешали, и это будет сущей правдой. Кто хлебнул из этой чаши в стране победившего социализма, тот сам знает. Кто не хлебнул, тому не объяснишь. Но эта правда будет не всей правдой. Будь наука для меня главным, я бы пробился.
Виноград оказался зелен. Душевную пустоту нужно было чем-то заполнять. Пастернак не прошел даром. Выяснилось, что и советский поэт — не всегда Евтушенко. Тут явилась мне мысль престранная и воодушевляющая.
С детства, с первых мною написанных млечных рифм, само собою разумелось для меня, что если поэт, то — Пушкин. Кто еще? Каждый услышавший рифму русский ребенок чувствует себя Пушкиным. Лермонтов (я знал это всегда) — его бледная тень. (Что Лермонтов — первый, задолго до Маяковского, поэт резолюции ; что его царь Николай назначил преемником Пушкина, никто никогда мне не говорил. Что Лермонтов — не второй и даже не третий русский поэт своего времени, мне тоже пришлось самому понимать.)
Поэт читалось как гений . «В стихах посредственность — бездарности синоним», — этой формулы я в ту пору не знал; в Горация не заглядывал, про Буало не слыхивал. Согласился бы с нею, но — лишь как с выхолощенной формой мысли более естественной: я — лучший из поэтов, я — новый Пушкин. Не смейтесь. На меньшее душа ребенка не соглашается. Думаю, что это дикая мечта сидит в каждом стихотворце, пока он пишет, но сидит не как мысль (такой мысли не помутненное сознание не выдержит), а на подсознательном уровне. Там заложено: «Я — хоть в чем-то , да лучший». У кого эта младенческая иллюзия прошла, тот стихи писать перестает.
Выходило вот что: стихи я пишу плохо, совсем плохо (понять это ума хватало), а вместе с тем я — лучший, избранник божий, пророк, гений. Всё или ничего. Рассудок говорил: ничего. Пустое место. Какое, к чорту, всё?! (Имя нечистого я склонен писать по-старому. Чорт через е(ё) — очень советская выдумка.) Сам видишь: пустое место. А на подсознании маячило и зудело то самое, вздорное, неизъяснимое. Всё было против меня. Плюс еще одно.
Уже в двенадцать лет я знал: поэт с моей фамилией — в России невозможен, не нужен. Моя народность выражалась в том, что моя же собственная душа отвергала мою фамилию, не допускала ее присутствия в русской поэзии. Вырасти в ленинградском дворе и хоть чуть-чуть не быть антисемитом — две вещи несовместные, будь ты хоть десять раз евреем. Бодрости это не прибавляло. В итоге начальный пыл, по временам вспыхивавший с новой силой, всё же с годами сходил на нет. Опереться было не на кого. В студенческие годы казалось, что стихи даже и главным в моей жизни быть перестали. В столе пылился ворох недоработанных набросков с какими-то (можно допустить) проблесками. Куча битого стекла в лучах заходящего солнца.
Оставалось повеситься. Вешаться не хотелось. На помощь подоспел возраст.
Взрослея, мы уступаем. Компромисс — вот другое имя взрослости. К 1970 году я уже настолько повзрослел, что сказал себе: я готов довольствоваться малым. Хочу стихов и живого отклика на них. Не нужна мне слава, плевал я на величие, оно только детям грезится. Хочу научиться писать без вывертов и протуберанцев. К чорту озарения. Хочу донести хоть что-нибудь хоть до кого-нибудь. Уступаю нашему жалкому времени: буду понятным. *Разве сложность — не одна из личин высокомерия? Неужто я, в самом деле, настолько сложнее моего соседа и приятеля Кости Красильникова? Стихи должны что-то сообщать.
* Позже, в годы опять безнадежные, страшные, во второй половине 1979-го, словно подводя итоги, я составил полный кодекс всего написанного и удержавшегося в памяти. Назывался он Рептильная лира . Его второй части были предпосланы строки, где я о себе говорил во множественном числе:
Читать дальше