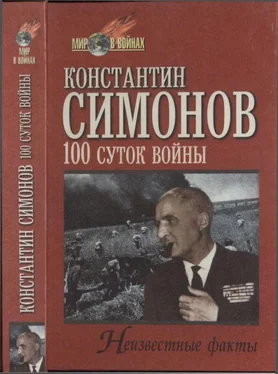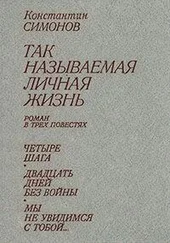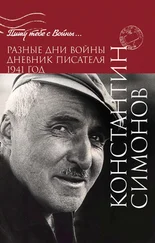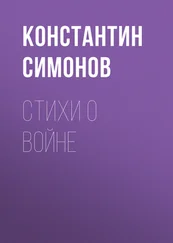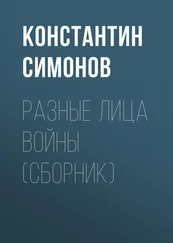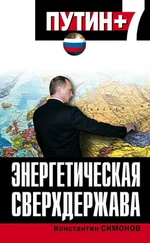Эта панорама, это общее представление о войне складывалось постепенно, годами — и продолжает складываться по нынешний день — из множества прочитанных статей в газетах и журналах, книг — документальных и художественных, мемуарных, исторических, из десятков увиденных кинофильмов, из скупо публиковавшихся, но все-таки накапливавшихся архивных документов, статистических данных и т. д. и т. п. И чем больше становился этот багаж, тем яснее осознавали мы место в общей панораме войны того, что видели сами, тем острее ощущали пробелы в наших знаниях, тем внимательнее были ко всему новому, прежде нам неизвестному, лучше его различали, больше ценили, — впрочем, это обычная диалектика познания.
Было бы заблуждением думать, что военный опыт писателей, того же Симонова, запечатленный в немногих дневниках и записных книжках, в отличие от нашего опыта рядовых участников войны, был свободен от узости и ограниченности. И у них, когда они вели свои записи, представление об общей панораме войны было все-таки приблизительным, порой неточным. Многие взгляды и суждения, рожденные той эпохой и ей принадлежавшие, в какой-то степени были общими для всех современников, их справедливо называют расхожими, они с годами изменялись, трансформировались и через четверть века иногда кажутся странными, нелепыми, поражают даже нас самих, но ничего не поделаешь, так было. Эта проблема с неотвратимостью встает перед каждым писателем, решившим публиковать свои старые записи или дневники. Если он хочет быть верен исторической правде, он не может причесывать на нынешний манер то, что думал и писал когда-то. Но он должен — тоже из уважения к исторической правде, — не вторгаясь в старые записи, не подчищая их, не переписывая, дополнить, углубить, уточнить или оспорить свои впечатления и суждения военного времени, то есть требуется общая панорама, которая не только будет выполнять функции современного критического комментария, но и помогает определить степень достоверности, а, следовательно, и ценность публикуемых записей.
Симонов много размышлял над этим еще до того, как принялся готовить свои записи для второй — после 45-го года — уже полной публикации. В одном из писем в начале 60-х годов он советует автору присланной ему на отзыв рукописи: «…у меня родилась мысль (может быть, запоздалая): не сделать ли всю эту книжку как тогдашний дневник с сегодняшними комментариями? Может быть, это следует даже подчеркнуть и графически, — скажем, тогдашние записи набрать корпусом, а нынешние примечания — курсивом?.. При такой форме будет и ощущение полной достоверности и будет возможность, сохраняя эту достоверность тогдашних обстоятельств, чувств, поступков, мыслей, высказать и то, что Вы по этому поводу думаете и чувствуете сейчас…» Этот принцип подачи материала Симонов и осуществил в книге «Сто суток войны». Сопоставление и сочетание двух точек зрения, между которыми четверть века жизни, двух взглядов, у каждого из которых есть свои преимущества: один в упор, точно фиксирующий происходящее во всех деталях и подробностях, которые — отступи чуть дальше — расплываются; другой — издалека, охватывающий причины и следствия, обнаруживающий связь явлений, которую с близкого расстояния заметить невозможно. И преимущества одного компенсируют ограниченность другого. Эта постоянная «съемка» с двух «точек», делающая изображение «стереоскопичным», и есть то новое, что открыл автор «Ста суток войны» в традиционном литературном жанре, и одна из главных причин успеха дневниковых книг Симонова.
Но, разумеется, не единственная. Симонов в своих дневниках немало размышляет о чисто военных проблемах, его суждения серьезны и основательны, более того — проницательны, но важнее то, что это писательские дневники, и именно этим они привлекают больше всего. Они написаны автором, обладающим особой остротой, особо «настроенным» зрением. Дневник вел человек и очень наблюдательный, и отличавшийся жадным интересом к тому, что происходило, стремившийся увидеть побольше. Причем это был интерес сосредоточенный — Симонова больше всего занимали люди, их поведение на войне, в минуты смертельной опасности, их душевные качества, какими они были в мирное время и как трансформировались в войну, их чувство ответственности — профессиональной и гражданской (он постоянно подчеркивает их неразделимость), нравственные проблемы, которые встают перед людьми на фронте, житейские заботы, от которых никто не избавлен и на войне.
Читать дальше