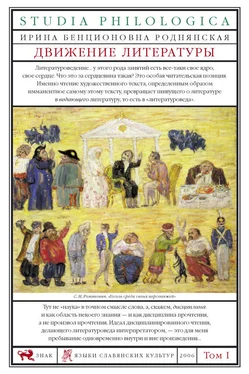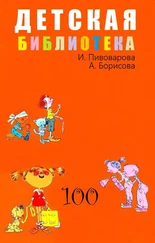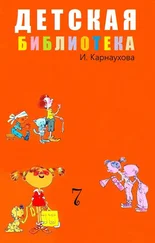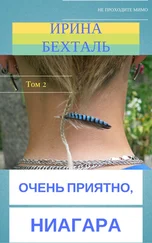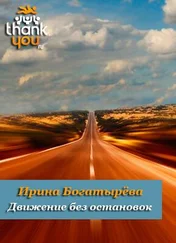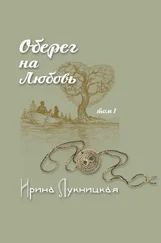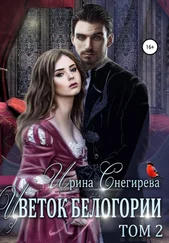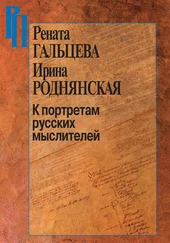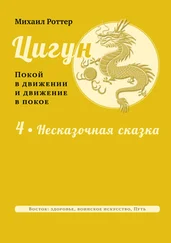См.: Ортега-и-Гасет. Дегуманизация искусства // Самосознание культуры и искусства XX века. Западная Европа и США. М.; СПб., 2000. С. 312–347.
Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918.
Булгаков С. Тихие думы. М., 1918. С. 32–52.
Классическая эстетика знает категорию безобразного, но в ее противоположности категории прекрасного; без этой подразумеваемой антитезы изображение безобразного потеряло бы в ней смысл. Эстетика «нового искусства» в предельных случаях знать не хочет о различении безобразного и прекрасного. Или, вернее, всякая натура для нее «безобразна», ибо косна, привлекательны только инструментальная воля художника, его находчивость и изобретательность. Возникает как бы новый эстетический феномен «заманчиво-уродливого», при контакте с которым ошеломление служит суррогатом наслаждения.
Роднянская И. Поэзия Заболоцкого // Вопросы литературы. 1959. № 1. С. 121–137.
В этом вопросе сошлюсь на мнение Д. Е. Максимова, встречавшегося с поэтом в 20-е годы и впоследствии пристально вглядывавшегося в мир «Столбцов», который сразу поразил его «какой-то новой опредмеченной играющей волей и остротой»: «Было очевидно, что стихи эти породила встреча с какими-то страшилищами косного, бездуховного мира, обступившими поэта на полусимволической Конной улице и многих ей подобных, а может быть, и более того – явившимися в его сознании как выражение косных мировых сил в их универсальной космической сути» ( Максимов Д. Е. Николай Заболоцкий: Об одной давней встрече // Звезда. 1984. № 4. С. 185, 187).
Скоро Заболоцкий, уже значительно отойдя от городских «Столбцов», скажет: «Природа в стройном сарафане, / Главою в солнце упершись, / Весь день играет на органе. / Мы называем это жизнь…» («Поэма дождя». 1931) (1, 99).
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1980. Т. 2. С. 141, 149, 159, 170.
В 1909 году Иннокентий Анненский писал именно об этом стихотворении как об удивительном образце новейшего течения в лирике – неожиданном, завораживающем, смущающем (см.: Анненский И. Книга отражений. М., 1979. С. 339–340).
Из стихотворения «Я, отрок, зажигаю свечи…» ( Блок А. Собр. соч. Т. 1. С. 204).
Блок А. Собр. соч. Т. 2. С. 149.
Ортега-и-Гасет. Указ. соч. С. 338.
Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979. С. 67.
См. статьи «Лик и личины России» (раздел «Пролегомены о демонах») и «Легион и соборность» // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1918. С. 35–46, 125–136.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 4. С. 327.
Примеры заимствованы из «смешанных столбцов», писавшихся вслед за городскими.
Альфонсов В. Слова и краски: Очерки по истории творческих связей поэтов и художников. М.; Л., 1966. С. 129. В обэриутском манифесте Заболоцкий с горечью писал: «Нам непонятно, почему Школа Филонова вытеснена из Академии…» (I, 521).
Ср. у Блока таинственную сакрализацию городской толпы: «Это были цари – не скитальцы» (стихотворение «В кабаках, в переулках, в извивах…»).
Цит. по кн.: Альфонсов В. Слова и краски. С. 186.
Вот, наугад: «Тяжеловесны, как лампады, знамена пышные полка» (I, 349); «Сидит извозчик, как на троне» (I, 352); «Младенец, нагладко обструган, сидит в купели как султан» (I, 350); «Бокалов бешеный конклав зажегся, как паникадило» (I, 341); «… и визг молитвенной гитары, и шапки полны, как тиары, блестящей медью…» (I, 353–354).
В предсмертной поэме «Рубрук в Монголии», где к Заболоцкому неожиданно вернулась прежняя молодая энергия и где заново, уже на совершенно ином историко-культурном материале, пересматривается философская контроверза «Столбцов», поэт снова задается вопросом о том, как быть на очной ставке с подавляющей силой, которая рядится в доспехи вселенской мощи и претендует на помпезное единодержавие. И вопрос снова остается без уверенного ответа. Но самая его постановка сопровождается трезвой и ясной усмешкой, не свойственной «Столбцам».
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 120.
Чуковский Н. Встречи с Заболоцким // Воспоминания о Заболоцком. М., 1977. С. 224.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу