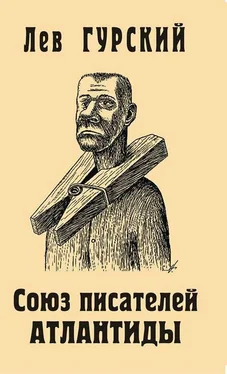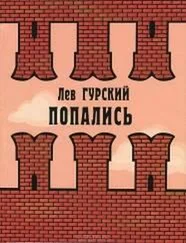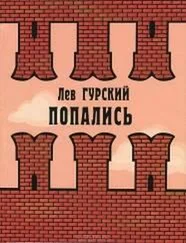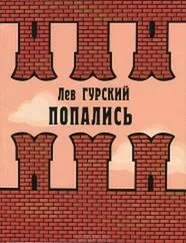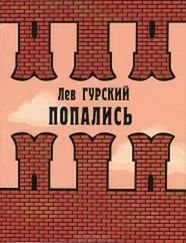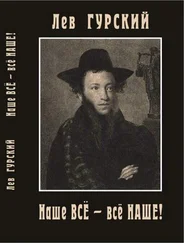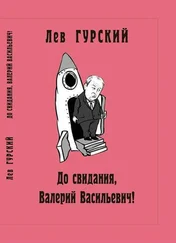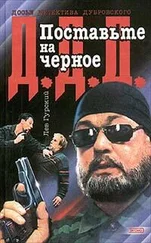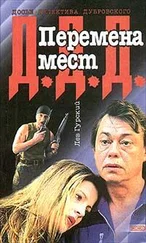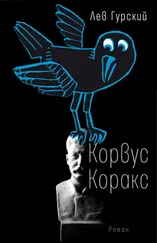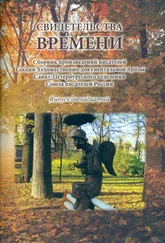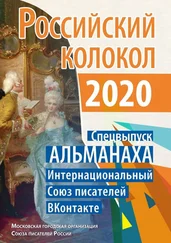Каким образом и почему появились эти строки в отчете областного культминистерства — настоящая загадка природы, штука посильнее тунгусского метеорита и лохнесского чудовища. Когда ведомство Владимира Синюкова, рапортуя о достижениях за 2009 год, там же упоминает о награждении писателя М. Меренченко премией имени М. Алексеева III степени, это еще понятно. Увы, финансовое бремя той награды несут саратовские налогоплательщики. Но «Имперская культура»? Она-то здесь, извините, с какого бока? Какое она имеет отношение к нашей губернии? Основатель премии Эдуард Володин — он хоть и Володин, но все же не Вячеслав Викторович.
Мысль о том, будто наш облминкульт автоматически записывает себе в актив любое кем-либо и где-либо премированное произведение, сочиненное саратовцем, мы сразу же отметаем с негодованием: быть не может, чтобы ведомство с гордым словом «культура» в названии стало бы заниматься элементарными приписками. Тогда в чем же дело? Неужели названная выше «Имперская культура» тайно спонсируется с берегов Волги? В это тоже верится с трудом.
Надеемся, что министр Владимир Синюков очень скоро прояснит ситуацию и рассеет наше недоумение, а пока — в предвкушении ответов из минкульта — вкратце напомним читателям о том, чем же славны автор-лауреат В. Масян и профессор-учредитель Э. Володин.
Руководитель местного отделения СП России Владимир Масян известен саратовцам не только как неудачливый издательский чиновник (в пору его руководства Приволжским книжным издательством оно совсем захирело) и создатель романа «Мамлюк» (это могучее творение, правда, мало кем читано), но еще и как генератор нетривиальных общественных инициатив. «В саратовских писательских кругах о Масяне ходят легенды, — три года назад сообщала газета «Взгляд». — Поговаривают, что в свое время именно он стал главным инициатором одиозной акции по возведению в Саратове памятника Сталину и лично ходил к Дмитрию Аяцкову, пытаясь убедить его в полезном влиянии «отца народов» на умы и души жителей губернии».
Озабоченность Масяна Сталиным хорошо заметна и в премированной повести «Игра в расшибного» (любой желающий без труда отыщет ее на московском интернет-сайте «Русское воскресение», по адресу: http://www.voskres.ru/literature/prose/masyan.htm). Хотя действие происходит в конце 60-х, то есть уже в брежневские времена, Иосиф Виссарионович позитивно упоминается здесь не раз. «Сталин разрешил горячо любимому народу ставить елки и справлять отмененные Лениным и Троцким новогодние торжества». А бывшие фронтовики «всякому недовольному Сталиным могли запросто свернуть скулу». Ясно, что нелюбовь к «вождю и учителю» испытывают только люди ущербные или просто враги. Так что когда ближе к концу повести среди персонажей вдруг, как чертики из табакерки, возникают некие Исаак Самуилович Демин и его гадкая дочка-барахольщица, окрутившая честного секретаря горкома, читателя осеняет: вот же они, супостаты! «Никакой чесночный запашок не мог заглушить в Деминском доме устойчивый, настоявшийся дух неотомщенного лишенства. Здесь не могли простить Сталину чистки евреев в высших эшелонах власти, а главное — в карательных органах, и надеялись на реванш».
С точки зрения стилистики повесть сделана не просто плохо, а безобразно, на грани самопародии: «мысли их еще оставались отягченными невыученными уроками», «созвучно собственному настроению сочувствуя собаке», «серые брюки в крупную клетку. Казалось, они сами памятовали о себе», и т. п. Повествование буквально рассыпается, когда нарочито «народные» слова в речи автора («взопрел», «завертывает», «мотылялся», «кобыздох», «шабутной», «ноздрястый», «шементом» «промеж себя») соседствуют с лексикой принципиально иного свойства («интуитивно фиксировал в памяти», «аппендикс», «старательно грассируя», «транспортных средств», «в хронологическом порядке», «конъюнктура власти»). Употребив вначале жуткое выражение «общественный опростатель», Масян, к счастью, забывает о нем и в следующий раз пишет без выкрутасов: «общественный туалет». И на том спасибо.
Порой ошибки, допущенные членом Союза писателей, непростительны даже в школьных сочинениях («ступив на подножку «дежурного», на лицах их появлялось подобие мстительной ухмылки», «бассейн, отделанный диким камнем, где плавал подраненный лебедь»…). Редактор здесь и не ночевал, хотя даже опытному редактору было бы не под силу реанимировать этот словесный морг. «Тугие груди ее без лифчика зазывно метнулись навстречу Котьки», — читаем в повести (орфография авторская), а вскоре появляются «с десяток пупырчатых огурцов, на диво еще крепких и зазывно просящихся на зуб». Что груди, что огурцы — подумаешь, какая разница?
Читать дальше