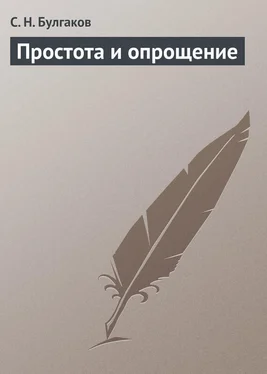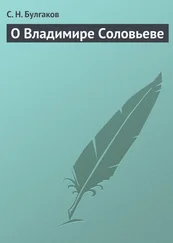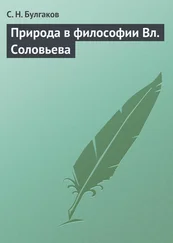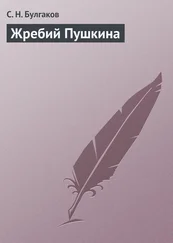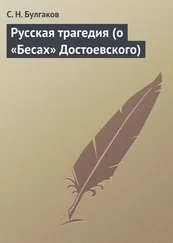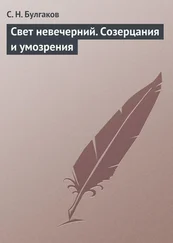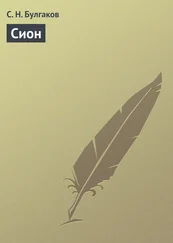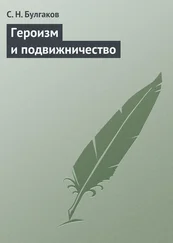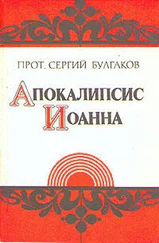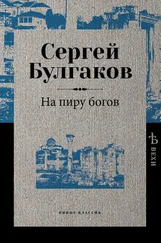Таким образом, если спросить, является ли Евангельская проповедь простоты вместе с тем и проповедью опрощения (и не в толстовском только, но и в несравненно более радикальном смысле), то приходится ответить: и да и нет, или: ни да ни нет. Насколько оно изъемлет человека из времени, оно аскетично, но насколько оно есть учение о спасении этого мира и делает человека ответственным и пред своим делом, оно исторично и чуждо всякому опрощению и упрощению, им утверждаются на религиозной основе ценности культуры, а стало быть, и истории.
Для характеристики христианского понимания проблемы культуры приходится применить парадоксальное и с виду противоречивое словосочетание: христианством устанавливается идеал аскетической культуры, которой противоположна языческая культура, основанная на миробожии, с полным погружением в стихию этого мира. Именно идеал аскетической культуры, т. е. соединение религиозной свободы духа и исторического делания, выражен в вышецитированных словах ап. Павла. Культура есть плоть истории, аскетизм – ее душа. У нас до сих пор так плохо и односторонне понимают религиозно-историческую сущность аскетизма, что видят в нем лишь противоположность культуре, отрицание истории. Между тем он является известным устремлением этой культуры, ее духовным фактором. Он может, а по нашему мнению, и должен оказаться силой, спасительной и для самой культуры, ибо духовное здоровье связано именно с ним, а не с языческим вещелюбием, несущим с собой гниение и смерть для культуры.
Именно благодаря своему идеалу аскетической культуры и его жизненной мощи христианство и проявило себя не только как религия личного спасения, источник религиозных радостей и утешений, но и как всемирно-историческая сила, которая породила «христианскую» культуру. И это надо сказать не только про средневековую, но даже и про новейшую европейскую культуру, которая, хотя и обезбожена в сознании, в бытии своем, в корнях своих все же есть христианская культура, ибо выросла она из средневековой культуры и реформации, имеющих общий корень в первохристианстве. И не понимать этой историчности христианства, а стало быть, его противоположности всякому упрощающему, антиисторическому опрощенству, – значит не замечать существенной и характерной его стороны.
Противоположный полюс аскетической, или религиозной, культуры составляет буржуазная, или иррелигиозная, культура, где душой культуры является не дух, но плоть, где религиозный антиномизм земного существования притупляется или упраздняется тупым эпикуреизмом, как бы ни был он утончен и эстетичен, где тоска по вечности побеждена… комфортом. Буржуазность эта может быть свойственна не одной только капиталистической культуре, которую обыкновенно называют буржуазной в экономическом смысле. Как чисто духовное качество, буржуазность не связана с каким-либо определенным экономическим строем. Буржуазной в этом смысле может быть – следует даже прибавить, и хочет быть – и социалистическая культура не меньше, чем капиталистическая, хотя, конечно, эта последняя имеет еще свою специфическую буржуазность, связанную с неравномерностью распределения, антагонизмом богатства и бедности в капиталистическом хозяйстве. Мещанство есть духовный яд, вырабатываемый всякой культурой и потому необходимо требующий аскетического противоядия. Лишь в духовной борьбе, имеющей в своей основе религиозный антиномизм, побеждается мещанство и спасается от него духовная личность.
Теперь возвратимся к Толстому с его учением об опрощении. В таком рассудочном понимании христианства как учения «не делать глупостей», «ясном, как дважды два – четыре», «практичном» [22], конечно, нет места пониманию того коренного антиномизма, который лежит в основе этики христианства. И толстовское понимание его этики отличается именно тем, что в нем перемешаны положения, свойственные обоим членам христианской антиномии, первый истолкован в смысле второго и наоборот.
Стремление к простоте ради духовной жизни, насколько последняя была доступна Толстому, приводит его к высокой оценке аскетического начала в христианстве. Но практика аскетизма, то опрощение, которое имеет значение лишь метода, средства, неожиданно получает у Толстого огромное и совершенно самостоятельное значение – оно притязает быть единственным разрешением проблемы культуры. Аскетизм подменяется, таким образом, физиократизмом. Путь освобождения души от земных уз незаметно превращается в способ наилучшего разрешения вопросов общественного строя, устроения земного града, рядом с Евангелием характерно появляется «Жоржа», роль которого в других учениях об устроении земного града исполняют Лассаль, Маркс и другие социальные пророки. Религиозный проповедник превращается в социального утописта, однако эта социальная утопия проповедуется одновременно во имя как спасения души, так и наипрактичнейшего социального устройства. Путь к христианской духовной жизни отрезывается толстовским рационализмом, а путь к социальному реформаторству – его религиозным утопизмом, связанным с абсолютизмом требований и средств: толстовство чрезмерно рационалистично для религии и недостаточно рационалистично для мирской жизни [23]. Как религиозный мотив опрощение недостаточно аскетично, ибо оно есть в конце концов рецепт наилучше устроиться на земле, рационально обмирщиться, а как мотив религиозной философии истории оно чрезмерно аскетично, ибо объявляет неестественным или противоестественным все историческое развитие и для всей почти истории находит лишь слова осуждения и гнева.
Читать дальше