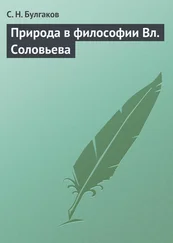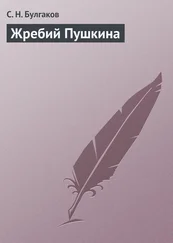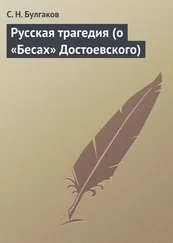Почему же надо считать естественным труд земледельца или ремесленника, а противоестественным труд ученого-агронома, врача или фабричного рабочего? Ведь это определение применяется по произволу и прихоти, а не по сознательно продуманному критерию. Даже если культура и история есть болезнь, то ведь болезнь так же естественна, а иногда и неизбежна, как здоровье, причем возможность болезни заложена уже в здоровом организме, не говоря уже о том, что есть болезни роста. Если считать жизнь в деревне более естественной, чем в городе, то ведь города, в известном смысле, возникли тоже благодаря развитию деревни и вследствие тяжелой исторической необходимости, а не чьего-либо злого умысла или заблуждения.
Нельзя еще не отметить сословного, социального привкуса этого учения об опрощении, которое годно только для кающегося дворянина, но лишено всякого смысла для массы народной. Обращенное к ней, оно было бы издевательством над этой трудной, полной лишений жизнью. Народ страдает от темноты, нищеты, беспомощности, а отнюдь не от культурной сложности, поэтому он так далек от физиократизма. Народ спокойно и охотно берет у культуры то, что только доходит до него действительно нужного и полезного, берет не одну водку и модную пошлость, но и хорошую книгу, и агрономическую помощь, и совет врача, и вообще он далек от преднамеренного опрощенства. У Толстого в проповеди опрощения вообще слишком сильно старое народобожие, которое он так и не преодолел до конца. Одной из самых обаятельных черт его личности была его близость к народу, искреннее уважение к нему, сочувственное понимание его жизни. Эта привязанность к народу придает Толстому особую почвенность и здоровье. Эта духовная близость к народу была, впрочем, не меньше у Достоевского, у которого была вскормлена не добрососедскими отношениями, а совместной каторгой. Но если Достоевский остался совершенно чужд народобожию при всем своем культе «народа-богоносца», Толстой как религиозный мыслитель так и остался в плену сознательного или бессознательного народобожия, которое сближает его с нашей интеллигенцией. Опрощенство есть мораль народобожия. Но народобожие несовместимо с религией духа, ибо оно есть все-таки идолопоклонство. Таким образом, в этом учении мотивы христианского аскетизма неразличимо смешаны с мотивами народобожия, а культурное иконоборчество само является выражением культурной переутонченности и социальной привилегированности, предполагает в качестве основы то, что оно отрицает, т. е. страдает внутренним противоречием.
Но насколько учение об опрощении бедно положительным религиозным содержанием, настолько же оно сильно своей отрицательной, критической стороной. Критика современной цивилизации, содержащаяся в этом учении, имеет огромное и притом чисто культурное значение. Как уже было указано, социальный мотив и социальную правду этой критики Толстой разделяет с социалистами и вообще социальными реформаторами. Но в религиозной критике цивилизации он идет своим собственным путем. И притом замечательно, что, подобно древнееврейскому прорицателю Валааму [24], он, вместо того чтобы проклинать, в действительности благословляет, ибо религиозная критика цивилизации есть истинно культурное деяние. Это уже не опрощение (о каком опрощении можно говорить мировому писателю, каждое слово которого по телеграфу, телефону, почте распространяется в отдаленные концы мира), это есть критика гнилой, негодной, мещанской культуры во имя идеала истинной, высокой духовной культуры. Ведь Толстой, громя культуру, в действительности громит буржуазность этой культуры, и эта отрицательная сторона гораздо существеннее в этой критике, нежели прямые его утверждения культурно-нигилистического характера. Так, нападая на науку, он прежде всего имеет в виду иррелигиозность, или духовную буржуазность, жрецов этой науки, с их филистерским самодовольством и тупым самомнением, которому в самом деле представляется, что если они изучили какой-либо специальный вопрос ценою отупения во всех остальных областях жизни духа, то могут за это считаться авторитетами по всем мировым вопросам. Этим представителям «научной науки», имя которым – легион, Толстой во всеуслышание целого мира указывает их настоящее место. Плохо, конечно, что при этом он попутно и вовсе выпроваживает науку, а стало быть, обесценивает ту общечеловеческую и религиозную ценность, которая в ней заключается. Но это он делает как проповедник опрощения, и ложь этой проповеди легко отделима от правды этой критики.
Читать дальше