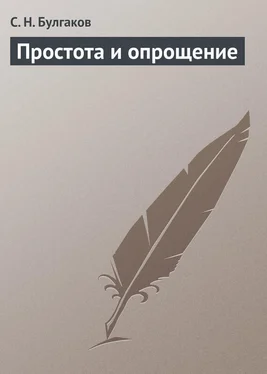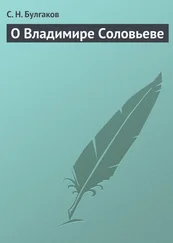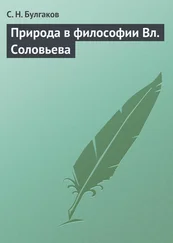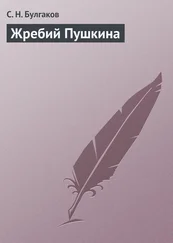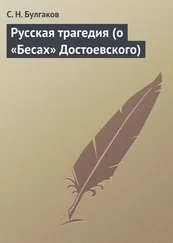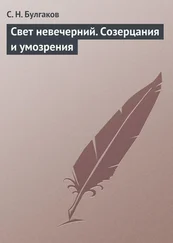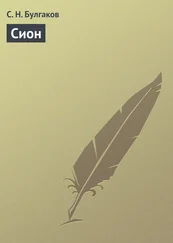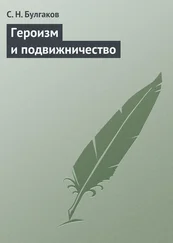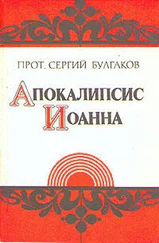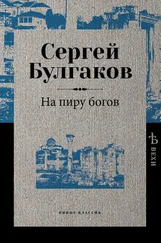«Дневник писателя» за 1877 год, июль-август, гл. II, IV. Достоевский замечает здесь о Левине – Толстом следующее: «Вот эти, как Левин, сколько бы ни прожили с народом или подле народа, но народом вполне не сделаются, мало того – во многих пунктах так и не поймут его никогда вовсе. Мало одного самомнения или акта воли, да еще столь причудливой, чтобы захотеть и стать народом. Пусть он и помещик, и работящий помещик, и работы мужицкие знает, и сам косит, и телегу запрячь умеет, и знает, что на сотовом меду огурцы свежие продаются. Все-таки в душе его, как он ни старайся, остается оттенок чего-то, что можно, я думаю, назвать праздношатайством».
«Исповедь». Изд. «Посредника», 1907. С. 54.
«Как ни странно было многое из того, что входило в веру народа, я принял все, ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противился ничему» (Там же. С. 63).
Герцен. Былое и думы. Т. VII. С. 302 (загран. изд., 1879). Что это не может быть верно относительно Ив. Киреевского, ясно на основании и его сочинений, и биографических о нем сведений.
Ср. тексты: Мф. 19, 27–29, Мр. 10, 28–30, Лк. 18, 28–30.
«В чем моя вера». 2‑е изд. С. 150. Курсив мой.
«В чем моя вера». С. 143 и далее.
Там же. С. 182.
Sit venia verbo – с позволения сказать (лат.).
Эвдемонизм – принцип истолкования и обоснования морали, согласно которому счастье (блаженство) является высшей целью человеческой жизни. Эвдемонизм проник во многие школы античной мысли, в Новое время был поддержан Спинозой, французскими материалистами (Гельвеций, Гольбах).
Утилитаризм – ценностный принцип полезности; направление в этике, полагающее пользу основой нравственности и критерием поступка. Распространился в Великобритании в XIX в. (И. Бентам, 1748–1832). См.: Милль Дж. С. Утилитарианизм. СПб., 1900. В английском утилитаризме возобладали натуралистические мотивы.
Детскость есть непорочная чистота Божьего создания… – см.: Исупов К. Г. О русской философии и теологии детства // Ребенок в современном мире. СПб., 1994. Ч. 1.
Это очень умел чувствовать Л. Н. Толстой, который посвятил детству один из дней (8 сентября) «Круга чтения» (С. 196–199). Эти страницы принадлежат к наилучшему, что в нем есть.
Брак в Кане Галилейской – см. Ин. 2, 11–12.
Как пример евангельского антиномизма, который легко может быть истолкован как прямое противоречие, укажу на загадочные слова Христа ученикам, которые, конечно, Толстой оставляет без внимания в своей проповеди непротивления. Вот эти слова: «Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его: также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч… Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно» (Лк. 22: 35–38).
Подробнее эта экономическая антиномия в христианстве разобрана мною в очерке «Христианство и социальный вопрос» («Два Града», т. 1, 206 сл.).
Недавно было опубликовано очень характерное письмо Толстого к М. А. Миловидову(«Рус. сл.», 13 окт. 1911 г.), где читаем между прочим: «Ответа на вопрос вашего знакомого о том, на что полезнее отдать деньги, не могу дать другого, как тот, который дал Христос богатому юноше, именно – отдать деньги нищим, т. е. кому попало, тем, кто просит, только с тою целью избавиться от них». В этом совете все фальшиво, все неверно. Во-первых, и сам Толстой не имел под собой почвы, чтобы давать такой совет, пока сам он не в силах был вполне его осуществить. Во-вторых, и Христос давал этот совет отнюдь не первому встречному богачу, но юноше, который, как сам он заявляет о себе, исполнял заповеди от юности своей и привлек к себе особенную любовь Господа, и лишь тогда ему был указан этот путь как путь совершенства. В-третьих, наконец, совет «отдать деньги кому попало», лишь бы отделаться от них, не только поражает своей непоследовательностью с точки зрения мировоззрения Толстого – что бы сказали, если бы я, не желая сам пьянствовать, стал бы раздавать имеющееся у меня вино желающим, – но и отрицанием всякой ответственности перед своим имуществом, или этики богатства. Здесь, как и во многих случаях, под личиной евангельской морали скрывается нигилизм опрощенства. О христианской этике богатства ср. наш очерк: «Народное хозяйство и религиозная личность» (в сборнике «Два Града», т. I).
Читать дальше