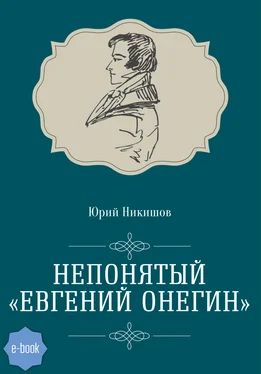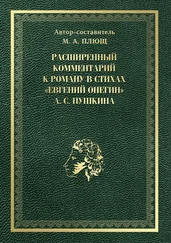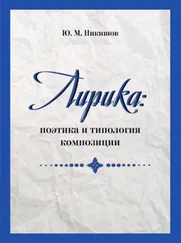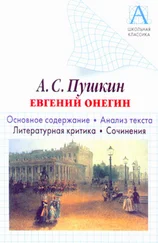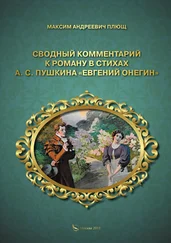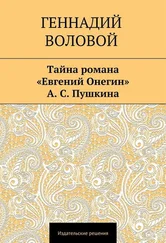И все-таки требуется подтвердить, что воображаемое может заменять реальное. Но разве такое не знакомо Онегину, которого наука страсти нежной привлекала «измлада»? Не детские ли фантазии героя («Как раномог он лицемерить…»), но в форме реального здесь изображаются? Или Пушкину в его любовной лицейской лирике, когда он еще возрастом не вышел для любовной практики, к тому же при казарменном (и безденежном) образе жизни? А еще можно сослаться на опыт Печорина: «В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? Одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге».
Бессмысленность опасной акции становится очевидной с позиции практики. Надо полагать, начальный «курс обучения» девиц не был рассчитан на длительность, и вот тут что «потом»? Прервать интимные отношения — и продолжать светское общение, как будто ничего не случилось? Или Онегин наметанным глазом выбирал тех, кто заранее был готов к судьбе «кокеток записных»? И на глазах жертвы заводил новую интригу?..
Пушкин солидарно с героем не преувеличивает неосведомленность женщин. В четвертой главе поэт сочтет скучными попытки «Уничтожать предрассужденья, / Которых не было и нет / У девочки в тринадцать лет!» (На этом рубеже девочка становится девушкой; тут природа совершает просветительскую акцию).
Поэт вспоминает о своей любви к балам, был бы готов длить эту любовь, а препятствует этому ущерб, который они наносят нравам: «Верней нет места для признаний /
И для вручения письма». Поэт даже, не без скрытой иронии, дает наставления: «Вы также, маменьки, построже / За дочерьми смотрите вслед: / Держите прямо свой лорнет!» Маменьки без напоминаний старались. По принятой норме, девушке не полагалось получать некоторый опыт до замужества…
Мы сталкиваемся и с особенностями повествования романа в стихах: обозначение, изложение существенно преобладает над изображением. Детали не прописываются. Приходится больше доверять логике развития ситуации и авторским оценкам.
Сравним это с описанием более предметным. В черновике седьмой главы были наброски «Альбома Онегина»: они попадали в руки Татьяны, посетившей усадьбу своего кумира. Наброски включают несколько рассуждений на общие темы, а в основном это записи о встречах (публичных) с «одалиской молодой».
Вот самый пылкий ей комплимент:
R. С. как ангел хороша:
Какая вольность в обхожденье,
В улыбке, в томном глаз движенье
Какая нега и душа!
Счастливой в браке R. С. никак не назовешь.
Глядел на мужа с полчаса;
Он важен, красит волоса,
Он чином от ума избавлен.
В возлюбленной Онегин выделяет душу. А вот что сам слышит от нее: «И знали ль вы до сей поры / Что просто — очень вы добры?»
И как в такие отношения бросить камень? Называть их бездуховными?
* * *
Вот теперь попробуем окинуть взглядом начальный этап духовных поисков Онегина.
В чем смысл жизни героя в начале его самоопределения? В той самой жизни, которую ведет герой. Между целью и ее достижением самая малая дистанция. Вероятно, Онегин был счастлив, «сколько мог». То-то многие и воспринимают его едва ли не в качестве эталона светского поведения. Это не по-пушкински. Поэт, приступая в восьмой главе к «дорисовке» Онегина, демонстративно набрасывает строфу, которая и вместила этот самый эталон.
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.
Но если этот стереотип соотнести с картиной онегинской жизни, выяснится, что ему вполне соответствует только ее начало: в свои восемнадцать (даже не в двадцать) он был (опять же не на выбор «иль», а вместе) и франт и хват (тут именно количественное отличие, «счастливый талант» Онегина). Начало его самостоятельного жизненного пути (который обычно воспринимается опорной основой понимания героя) уместно определить всего лишь как его предысторию.
Читать дальше