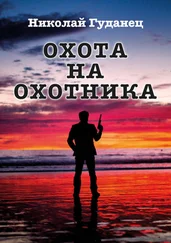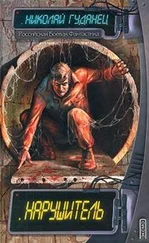Догадка Н. О. Лернера стала общепринятой в советское время и благополучно пережила крах коммунистической идеологии.
Например, не столь давно Г. А. Лесскис писал: «Первопричиной кризиса 1823-го года на уровне внешнем, поверхностном была, по-видимому, политическая ситуация внутри страны и в Европе в целом, не оправдавшая романтико-просветительских надежд Пушкина ни на быстрые успехи европейских революций, ни на скорое мирное преобразование русского общественного и государственного устройства» 45.
Словом, основной причиной духовного перелома пушкинисты практически единодушно признают победоносное наступление реакционных политических сил в Западной Европе и России. Но не обходят вниманием и разные сопутствующие факторы, помельче калибром.
Ю. М. Лотман полагает, что «тяжелый идейный кризис» Пушкина вызвали «разгром кишиневского („орловского“) кружка декабристов», сопровождавшийся «ссылкой самого поэта в Одессу» и «неудачи европейских революций от Испании до Дуная» 46.
Современный исследователь А. С. Немзер в популярном биографическом очерке перечисляет целый ворох разнообразных причин: «Сложности личного плана (запутанные отношения с графиней Е. К. Воронцовой и А. Н. Раевским), конфликты с Воронцовым, мрачность европейских политических перспектив (поражение революций) и реакция в России, изучение „чистого афеизма“ привели Пушкина к кризису 1823–24; мотивы разочарования, близкого отчаянию, охватывают не только сферу политики („Свободы сеятель пустынный…“), но получает и метафизическое обоснование („Демон“; оба 1823)» 47.
С. Л. Франк счел важнейшим совсем другое: «Пушкин переживает, примерно со времени переселения в Одессу (1823), не только психологическое охлаждение своих политических чувств и отрезвление, но и существенное изменение своих воззрений: еще в Кишиневе и потом в Одессе он переживает, на основании личных встреч с участниками греческого восстания, глубокое разочарование в последнем. Он увидал в „новых Леонидах“ сброд трусливых, невежественных, бесчестных людей» 48.
Несколько диссонируют с общим хором П. Вайль и А. Генис, трактуя преображение «певца свободы» как сугубый процесс обретения литературного мастерства: «Пушкин быстро отошел от образной системы декабристской мифологии, стремительно исчерпав ее возможности. Пышная богиня Вольность исчезает у Пушкина вместе с условностью его ранней поэзии» 49.
Впрочем, А. В. Тыркова-Вильямс вообще считает произошедший с Пушкиным перелом замечательным прозрением гения: «Вечно работающий (?) мозг Пушкина раньше многих понял ошибочность крайних программ, а может быть, и революционных методов» 50. (При всех вопиющих недостатках книги А. В. Тырковой-Вильямс этот опус заслуживает цитирования, поскольку в нем с точнейшей, карикатурной рельефностью очерчен слащавый обывательский миф о Пушкине.)
Особняком стоит мнение одного из крупнейших современных пушкинистов Н. Н. Скатова: «…поражение декабрьского восстания не родило у Пушкина при необычайной остроте личного переживания ничего подобного внутреннему перелому. А такой перелом совершается раньше, но и тем более трудно объяснить его (а ведь объясняется), например, только событиями в Испании или состоянием дел у неаполитанских карбонариев. Самые кризисы Пушкина — это, по сути, нормальные, естественные и неизбежные „возрастные“ кризисы. Те или иные, даже драматические, события внешней жизни не столько их определяют, сколько сопровождают их, им, так сказать, аккомпанируют, дают им пищу» 51.
Иными словами, если двадцатичетырехлетний поэт диаметрально меняет свои убеждения, вовсю предаваясь отчаянию и циничной мизантропии, это « нормально, естественно и неизбежно ». Хотя такая напасть, как известно, не приключается поголовно со всеми поэтами, тем более, на этом возрастном рубеже.
«В этот период (1823–1824) мы обнаруживаем в стихах Пушкина мотивы, чуждые дотоле его поэзии и после не повторявшиеся в ней, настроения и идеи, резко противоречащие общему характеру пушкинского творчества: глубокий пессимизм, разочарование в идеале свободы, просвещения, разочарование в поэзии, любви, дружбе, едко-саркастическое, „циническое“, по выражению самого Пушкина, отношение ко всему существующему. Эти же, необычные для Пушкина, настроения звучат и в его письмах того периода» 52, — удивляется С. М. Бонди. Ничего « нормального и естественного » тут и близко нет.
Своим эксцентричным утверждением Н. Н. Скатов существенно корректирует господствующую в пушкинистике точку зрения на кишиневский кризис, но при этом, как ни странно, заявляет с безмятежностью: «наименьшие споры вызывает эволюция творческого развития Пушкина, столь она ясна и определенна, так просто все кажется здесь в судьбе, хронологии, „этапах“ становления, в самом характере нарастания» 53.
Читать дальше
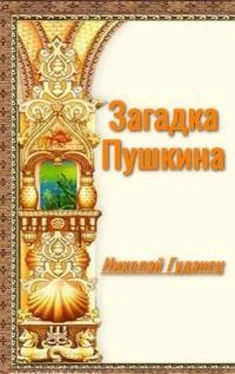
![Николай Гуданец - Агент Омега-корпуса [антология]](/books/28655/nikolaj-gudanec-agent-omega-korpusa-antologiya-thumb.webp)