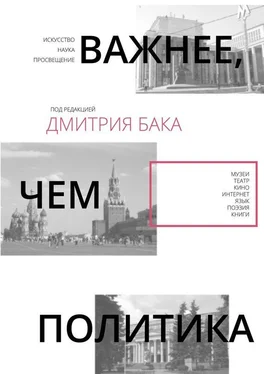Эмиль Паин, профессор НИУ ВШЭ:
«Историческая колея воспроизводится, только если ее целенаправленно поддерживают или восстанавливают влиятельные силы»
Постараюсь быть кратким, отвечая на вопросы, которые сформулированы в повестке Круглого стола.
1. Культура имеет значение – в чем важность и в чем опасность тезиса? Сосредоточусь на опасных последствиях, потому что о позитивных сказано уже довольно много.
Наш круглый стол имеет то же название, что и знаменитый сборник под редакцией Л. Харрисона и С. Хантингтона «Культура имеет значение» («Culture Matters»). Название этой книжки хорошо известно и принимается, равно как и ее идеи, тогда как их критика либо мало известна, либо неприемлема для большинства россиян. Хотя с этой критикой выступали такие известные мыслители современности, как Энтони Гидденс, Юрген Хабермас, нобелевский лауреат Амартия Сен. Последний в 2006 году написал книгу «Identity and Violence» в качестве полемики с концепцией С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» и идеями указанного сборника, названными им «той полуправдой, которая опаснее тотальной лжи».
Основные идеи, которые оспаривают Хабермас и Амартия Сен (а я присоединяюсь к их суждениям), сводятся к критике культурной предопределенности и, в частности, следующих ее аспектов: ограниченности взгляда на модернизацию (социально-экономическая модернизация признается, а культурная – игнорируется); избыточного редукционизма – при сравнении разных сообществ многие факторы, реально обусловливающие их различия (экономические, социальные, политические и др.), не замечаются или не принимаются во внимание. Поэтому излишне много различий приписывают влиянию культуры. Воображаемые сообщества принимаются за реальные, а их членам приписываются одинаковые взгляды. Более всего, по Харрисону и Хантингтону, сходство взглядов людей определяется религией. Но как с этой точки зрения объяснить конфликт России с православной Грузией в 2008 году и нынешний – с Украиной при отсутствии такового с преимущественно мусульманским Казахстаном или Таджикистаном?
Критика культурного детерминизма в России не была услышана, потому что ее не хотели и не хотят слышать. У нас в стране как консерваторы-охранители, так и отчаявшиеся либералы (а их большинство среди тех, кто себя называет либералами) в равной мере поклоняются мифу о культурной предопределенности политико-экономической траектории развития. Почему среди российских либералов так много сторонников культурного детерминизма? Сегодня скажу лишь, что по классификации Хабермаса большинство из приверженцев таких позиций были бы на Западе отнесены вовсе не к либералам, а к правым неоконсерваторам. Об этом можно прочесть в книге Хабермаса «Критика неоконсервативных взглядов на культуру в США и ФРГ».
2. Есть ли готовые, раз и навсегда сформированные национальными культурами политико-экономические траектории развития? Нет, и это видно на примере однотипных политических режимов, возникших в разных и очень непохожих друг на друга культурах.
В ХХ веке появились мобилизационные политические режимы в тоталитарных обществах, обожествляющих вождя и политическую утопию. Это произошло в католической Италии при дуче, в преимущественно протестантской Германии при фюрере, в безбожном СССР при вожде народов, в конфуцианском Китае при Мао, в буддистской Камбодже при Пол Поте, в исламском Иране при Хомейни и т. д. Национальная культура при этом имела значение: она не ломала политической модели, но придавала ей особый национальный колорит.
Например, германский нацизм появился в стране, прошедшей этап становления рациональной бюрократии, отличавшейся почти культом порядка. А итальянский фашизм появился в стране, где традиционно не почитался порядок и свирепствовала мафия. Разумеется, такая традиционность сильно мешала эффективности мобилизации, хотя и не останавливала ее – фашизм в Италии продержался вдвое дольше, чем в Германии. В СССР были преграды для мобилизации, похожие на итальянские, но они компенсировались возможностью высоких затрат демографических ресурсов: чем меньше порядка, тем больше затрат человеческих жизней. Это, кстати, стоит иметь в виду тем, кто ориентируется на восстановлении колеи мобилизационного общества в России.
Сейчас у этой модели нет тех возможностей развития, которые были при Сталине. Правда, появились новые ресурсы в виде мощнейших информационных технологий, но без экономических и демографических ресурсов эта колея невосстановима. Сегодня возможна лишь виртуальная мобилизация зрителей, которые мысленно почти тотально готовы поддержать любимого вождя, но не сходя с дивана, например, в телефонном социологическом опросе. А уже для организации Антимайдана и для других массовых действий в поддержку власти приходится нанимать клакеров или сгонять безыдейных статистов с помощью административного ресурса. О возможности же использовать мобилизацию для модернизации, хотя бы в архаичной форме индустриализации (строительства новых «Днепрогэсов»), и говорить нечего – это утопия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу