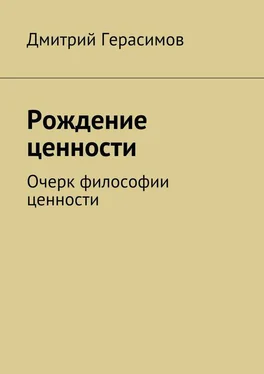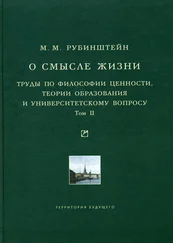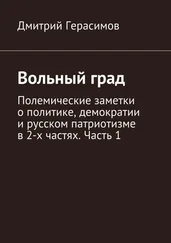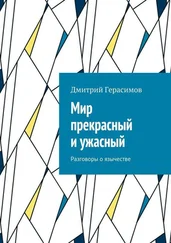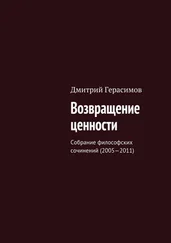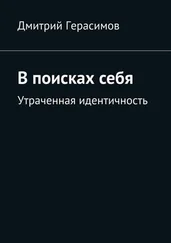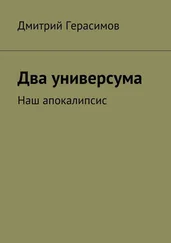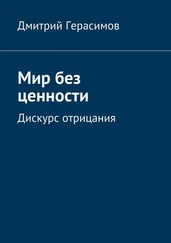Тем не менее, никаких теоретических предпосылок для различения двух фундаментальных способностей человека не существует и существовать не может, поскольку оно касается двух предельных понятий – (1) мышления, которое будучи первичным понятием «нельзя определить с помощью других понятий» 7 7 Логический словарь: ДЕФОРТ. М.: Мысль, 1994. С. 148.
и (2) переживания, которое, на наш взгляд, является столь же мало определимым, интуитивным понятием, как и мышление. Здесь нельзя не согласиться с одним из основателей современной аксиологии М. Шелером, утверждавшим, что существует «вид опыта, предметы которого закрыты для разума, в познании которых он слеп, подобно тому как ухо и слух слепы к восприятию цвета; это такой вид опыта, в котором мы постигаем… ценности» 8 8 История философии. Энциклопедия. Минск: Книжный Дом, Интерпрессервис, 2002. С. 262.
. Поэтому в случае, если конкретный философский дискурс запрещает какие-либо ссылки на опыт, в частности, личный опыт исследователя, данное положение (о различении двух способностей человека) должно рассматриваться в качестве аксиомы – далее не доказуемого положения, принимаемого на веру в рамках нашей философии ценности.
Невозможность выведения логическим путем доказательства отличия того, что есть мышление, от того, что есть переживание, является также главной причиной, почему исчерпывающаяся данным тавтологическим различением традиционная философская методология почти никогда не делает следующего необходимого шага во взаимной дифференциации ценности и смысла. А именно отказывается, а в некоторых случаях и прямо не допускает их различения по предмету . Тем самым последовательно отстаивая эссенциалистский, существенно одномерный подход, основывающийся явно или неявно на принципе неформализованного тождества (не только мышления и бытия, но также ценности и бытия, языка и мышления, а следовательно, ценности и смысла). С точки зрения «классического» дискурса предполагается необходимым, что ценность и смысл обладают предметным единством точно так же, как они могут относиться к одной и той же вещи одновременно. Точнее сказать, здесь, на предметном уровне они просто не различаются – и ценность как таковая (как нечто, отличное от смысла – а это и есть ее определение) отсутствует ! Не случайно в классической философии до XIX в. проблемы ценности не существовало вовсе (как и самого термина «ценность»), и впервые формулироваться она начинает только с появлением неклассического дискурса.
В контексте наших рассуждений здесь и далее условимся называть классическим философским дискурсом все типы и направления философии, относимые к античной греческой философии, а также связанные с библейской традицией мышления, либо так или иначе ориентирующиеся на греческие и еврейские образцы. Соответственно, неклассическим философским дискурсом будем называть все типы и направления философии, вступающие в полемику и порывающие как с библейской традицией мышления, так и с традицией античного философствования.
Главным отличием классического философского дискурса является его онтологизм – строгая зависимость гносеологии от онтологии, нерасторжимая связь всех разделов философии, включая этику и эстетику, с онтологией как учением о бытии . В частности, феномен классической философии, несомненно, базируется на предельности понятия мышления (разума – как фундаментальной способности) и его фактической неустранимости, полностью обусловливающей существование человека. Ведь невозможно не только помыслить, что есть мышление, ибо «сознание всегда на один порядок выше порядка элементов содержания, составляющих опыт сознания» 9 9 Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание // Звезда Востока. №11—12, 1993. С. 200.
, но невозможно даже просто «задержать» или «остановить» собственную мысль. «Мыслить – то же, что быть » Парменида (в отрицание всякого «психологизма») впервые устанавливает данное обстоятельство в границах «мыслящего себя разума».
Необходимой предпосылкой «онтологизации» мышления является неизбежная деформация человеческой природы – вместе с подавлением человеческой способности ценить (производить ценности, любить, желать и т.д.) ведущая к утрате такой важнейшей ее составляющей, как непосредственное (т.е. неопосредованное мыслью) восприятие действительности, в котором только, или благодаря которому, человек может отстраняться от смыслов, в то же время не нарушая работы мышления! Человек «мыслящий», но утративший способность переживать, остается наедине с собственным мышлением и тем самым отдается на растерзание бесконечной тирании смыслов, по сути – человек страдающий, наделенный «безутешным» мышлением (рождающим философии и религии). Не случайно первая «благородная истина» Будды Шакьямуни всё объявляет страданием: Будда – «философ» по преимуществу и типичный представитель одномерного (онтологического) мышления, дерзающего все свести к одной мерке , из которой вырастает важнейший принцип мироотрицания, декларирующий, что все (без исключения) человеческие привязанности (желания, цели и т.д.), всякое стремление к счастью, всякое развитие, имеющее своей целью себя (а не отличное от себя) – т.е., по сути, всякая ценность (!) человеческого (не говоря уже о мире, природе в целом) – «все это… всегда заканчивается разочарованием, смертью и утратой всего, что достигнуто» 10 10 Столь А. Б. О первой благородной истине буддийской философии // Наука и религия в современном мире: необходимость диалога (Тематический сборник). Уфа: Уфимский технологический институт сервиса, 2004. С. 141.
. Буддизм точно так же строит себя на подавлении ценности (систематическом отстранении от переживания), как и любое иное одномерное, «логизирующее» мышление, что делает его несовместимым с философией ценности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу