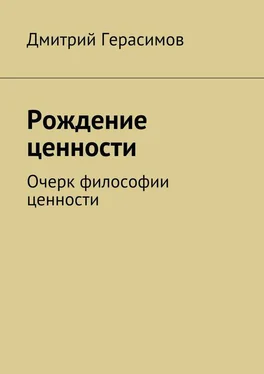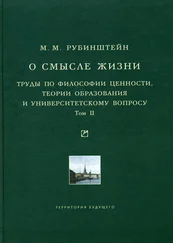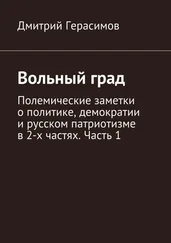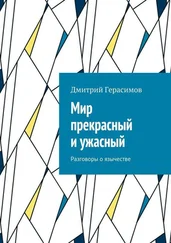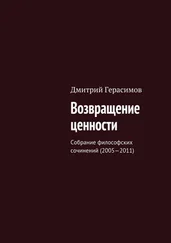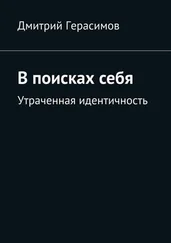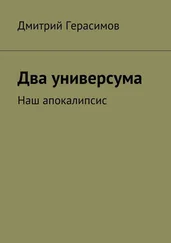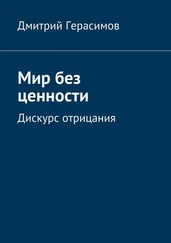Тем не менее, последняя не подчиняется напрямую осмысляющей деятельности не только в силу (1) самостоятельного характера чувственности, обладающей собственной познавательной активностью, но и потому что (2) переживание не является «познаванием», и в этом его главное отличие не только от мышления, но и от чувственности, объединяемой с мышлением как раз на основе их общего отношения к познанию. Конечно, современная философия, в отличие от своей классической предшественницы, стремится выявить фундаментальную роль переживания в познании и прежде всего с точки зрения познания. Так, по мнению В. Г. Иванова, особую актуальность приобретают именно «познавательные возможности человеческих чувств, переживаний, эмоций» 15 15 Иванов В. Г. Эмоциональные детерминанты мировоззрения // Мировоззрение в системе духовности: Материалы республиканской конференции молодых ученых (22 февраля) / Под ред. В. С. Хазиева, В. В. Гонеевой. Уфа: Башгоспединститут, 1999. С. 17.
, поскольку они «выводят мир из аморфности, безразличия, индифферентности», «„взбалтывают“ однообразие, создают множество различных эйдосов, схем, планов, образов, увеличивают степень свободы, расширяют функции, обогащают содержание» 16 16 Там же. С. 18.
. Кроме того, несомненно, что человеческие эмоции, даже не будучи напрямую связаны с познавательной деятельностью, могут существенным образом влиять на познание (его предпосылки, условия, ход и конкретные результаты), что не может игнорироваться в гносеологических исследованиях. Тем не менее, собственное содержание переживания (то, «для чего» оно) состоит совсем в ином и отнюдь не сводится к типичным содержаниям познавательной активности, столь характерной для мышления. Так, по мнению А. М. Рудакова и С. Ю. Тибенькова, переживание прежде всего помогает «ощутить человеку свою сопричастность с миром» 17 17 Рудаков А. М., Тибеньков С. Ю. Чувственная основа духовности // Мировоззрение в системе духовности: Материалы республиканской конференции молодых ученых (22 февраля) / Под ред. В. С. Хазиева, В. В. Гонеевой. Уфа: Башгоспединститут, 1999. С. 34.
, причем эмоции и чувства, лежащие в основе «ценящей» деятельности сердца, «есть проявление духовной субстанции человека, изначально генетически заложенной способности» 18 18 Там же.
. В самом деле.
Поскольку переживание имеет дело с вещами, а не с объектами, в нем просто нет познавательного разделения на «субъект» и «объект». Вот почему способность ценить (как переживание, или «ценение») не отличает (!) мир от человека, и каждым своим актом бесконечно приближает мир к человеку – познание, напротив, строится на отличии человека (как субъекта) от мира (как объекта) и каждым своим актом бесконечно удаляет мир от человека, составляя все то в мире, что в нем есть «нечеловеческого». Так понятое чувство – «первооснова всего Мироздания, одна из фундаментальных его характеристик», обладающая высокой самоценностью и самодостаточностью 19 19 Там же. С. 35.
.
Иными словами, философия ценности исходит из того, что (1) мышление как способность к осмыслению (наряду с чувственным опытом) не исчерпывает собой действительность («бытие»), и что (2) действительность есть также предельное переживание (способность ценить), в которой отличный от нее чувственный опыт не отрицается как в мышлении, а наоборот, актуализируется и подтверждается. Вот почему, как справедливо отмечает А. Бегиашвили (1993), «переживание, которое является постоянным фоном соотнесения человека с миром, должно стать предметом философского рассмотрения» 20 20 Бегиашвили А. Структура метафилософии. Тбилиси: Изд-во Тб. ун-та, 1993. С. 19.
. С точки зрения ценностно ориентированного сознания, переживание, как и «мышление в понятиях», является исходной и важнейшей формой человеческого существования в форме самобытия («самости», «субъекта», «я» и т.д.), ибо только в нем пребывает ценность, чем и обосновывается ее самостоятельный предметный характер.
Если под предметностью понимать форму, смысл, слово, то по-настоящему предметно лишь мышление, и правильно говорить о предметности как раз в случае смысла, а не ценности. Собственный язык общения с действительным , напротив, есть скорее язык жеста, мимики, поступка – язык танца по преимуществу, а не слова, мысли (Ф. Ницше). Если мышление гарантирует достоверный (с точки зрения смысла) характер действительности, то сердце открывает подлинный (с точки зрения ценности) ее характер: смысл мыслится – ценность переживается. Обычная глубина сознания, которую невозможно охватить смыслом, и есть переживание. Иными словами, даже <���осмысляемая в разуме> «предметность» переживания кардинально отличается от предметности мышления. То же самое следует сказать и в отношении ценности мышления.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу