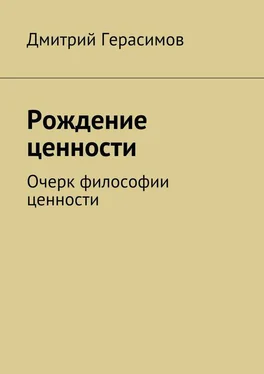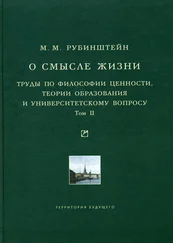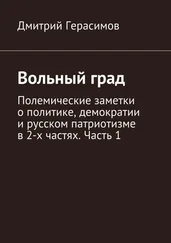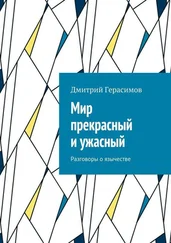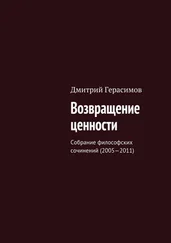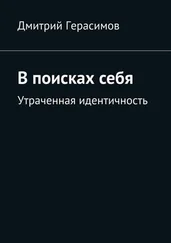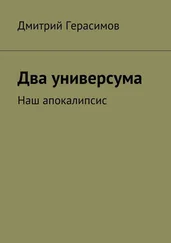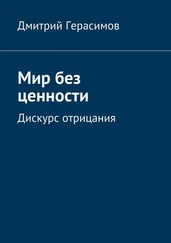То, что ценность не есть смысл, а смысл не есть ценность, представляется вполне очевидным и бесспорным, во-первых, с формально-терминологической точки зрения (иначе они были бы дублирующими понятиями – даже в случае возможных понятийных взаимопереходов) и, во-вторых, с точки зрения интуитивно схватываемого содержания самих понятий. В русском языке слово «ценно-сть» (то, что ценится) и слово «с-мысл» (то, что мыслится), как самостоятельные языковые термины, характеризуют собой разные виды деятельности. Смысл представляет собой когнитивную, познавательную деятельность человека, а ценность – деятельность аксиологическую, эмоциональную: смысл мыслится – ценность переживается .
Насколько мышление отличается от переживания, настолько оба вида деятельности предполагают отличные друг от друга способности человека, в обыденности противопоставляемые друг другу по условной локализации в различных частях человеческого тела: если смысл относится по преимуществу к «голове» (мышлению), то ценность к «сердцу» («чувству», переживанию). При этом «переживание» вовсе не является противоположностью мышления, или «антимышлением», «мышлением наоборот» и т.п., как это иногда понимают, связывая с ним «весьма обширный опыт постижения иррационального, смутного, хаотичного, нестабильного» 3 3 Потемкина В. Н. Переосмысление «образа» философствования в картезианско-ньютоновой парадигме // Бытие человека: Сб. ст. / Под ред. В. С. Хазиева. Уфа: Изд-во БГПУ, 2002. С. 33.
и, естественно, ведущий прямиком к «эзотерике, мистике, оккультизму» 4 4 Там же.
, а образует именно отличную от мышления и вполне самостоятельную способность человека, его «сердце».
Классический дуализм сознательного – бессознательного (подсознательного) совсем не учитывает этого сложного состава сознания и описывает работу последнего монистически – исключительно с точки зрения рационального мышления и вопреки другой человеческой способности – способности к переживанию (или «ценению»). Здесь и далее условимся называть одномерным сознанием сознание без ценности, т.е. такое сознание, в котором слабо или совсем не задействована способность к переживанию. Соответственно, одномерное мышление – это мышление, не различающее ценность и смысл (отождествляющее, либо антиномически противопоставляющее их) в структуре собственного сознания. Переход к сознанию (как осознанию) осуществляется не от бессознательного (или «предсознательного») – что означало бы фактическое отождествление сознания с мышлением (!), а от неразличения ценности и смысла – к их различению . Недостаточно что-то сделать мыслимым – перевести из актуально немыслимого в актуально мыслимое, необходимо еще, чтобы то, что мы мыслим (что стоит за нашей мыслью), одновременно переживалось нами. Иными словами, в направлении одной вещи должны быть задействованы сразу обе способности, а не одна – что возможно только в том случае, если эти способности не направляются непосредственно друг на друга, а каждая из них актуализируется своим собственным предметом. Только это и может значить сознание как осознание. Или, как пишет один из творцов современной теории ценностей Р. Г. Лотце, самосознание «не что иное, как уяснение бытия-для-себя, состоявшееся с помощью средств познания, да и оно вовсе не необходимо связано с саморазличением Я от противоположного ему не-Я (курсив мой. – Д.Г. )» 5 5 Цит. по: Легчилин А. А. Лотце // История философии: энциклопедия / Ред. А. А. Грицанов. Минск: Интерпрессервис: Книжный Дом, 2002: [Электронный ресурс] // Андрей Великанов. URL: http://www.velikanov.ru/philosophy/lotce.asp (Дата обращения: 03.11.2016).
.
Данное различие между двумя фундирующими способностями человека (поскольку оно апеллирует к переживанию) нельзя вывести иначе, как опираясь на опыт – методом психологического самонаблюдения. На это в свое время указал уже один из наиболее известных представителей философии жизни В. Дильтей, отстаивавший независимый от мышления характер чувства («переживания»), однако так и не сумевший до конца выйти за пределы традиционной гносеологии, требовавшей превращения чувства пусть и в особое (или только частичное), но все же «познание», которое могло бы составить основу специфически психологического «понимания» или «толкования» жизни, отличного от естествоведческого объяснения явлений (метод «тотального психологизма»): в языке, мифах, литературе и искусстве, во всем, чего касалась рука человека, по В. Дильтею, «мы видим перед собою как бы объективированную психическую жизнь: продукты действующих сил психического порядка, прочные образования, построенные из психических составных частей и по их законам» 6 6 Дильтей В. Описательная психология. СПб.: Алетейя, 1996. С. 99.
. Таким образом, в своих работах В. Дильтей стремиться обосновать, что «психологическое» является «сквозным» для всего процесса развития мышления и познания, что психическое не только ценностно нагружено, но нагружено положительно, и не только в бытийном плане, но и в познавательной сфере.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу