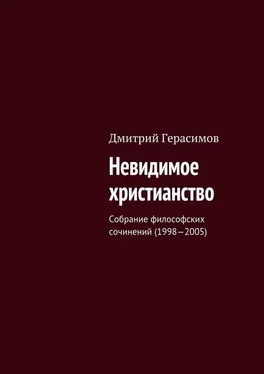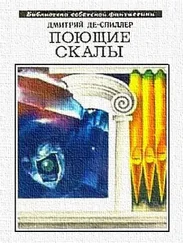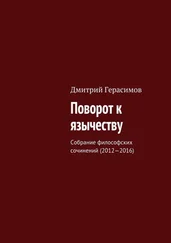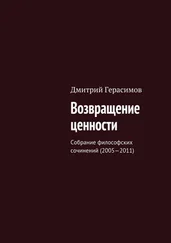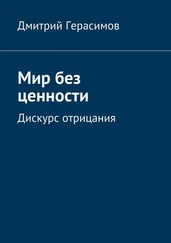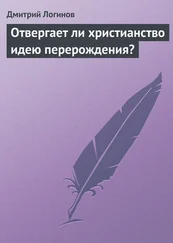Лишь Новое время дает фигуру в идейном смысле сопоставимую с Сократом – это Иммануил Кант. Это и пропедевтический и педагогический по преимуществу характер его философии, и отказ от догматической установки рационального исследования предельных вопросов бытия, и критика способности познания. Наконец, моральный характер этой критики, т.е., по Канту, главенство практического разума над разумом теоретическим. Вместе с тем, кантовские «вещь в себе» и «априорность» в такой же мере противоположны «непознаваемому» Сократа и его нравственной формуле самоограничения разума («я знаю, что ничего не знаю»), в какой вообще чистый разум противоположен живому опыту, что яснее всего на примере кантовского учения о моральной природе разума, базирующегося на принципе тождества нравственной воли и спекулятивного разума. Рационалистическое решение Кантом проблемы, поставленной Сократом, гносеологически («трансцендентально») отрывает познающего субъекта от познаваемой им действительности, ведя к результатам, аналогичным у Платона (в частности, в отношении эстетического, которое, по Канту, свободно от морального в той же мере, в какой независимо и от логического). Вместе с тем, ряд противоречий кантовской мысли указывает на достаточную близость ее к мысли Сократа: учение о трансцендентальной апперцепции и чувственное ограничение опытной сферы, учение об автономии нравственной воли и деантропологизация моральной философии и т. д. В целом кантовский рационализм (как научность познания любой ценой, даже в ущерб его подлинности) задал философии такое направление, какое завершилось, вопреки желанию самого Канта (через возвращение к натурфилософии у Фихте и Шеллинга) – в панлогизме Гегеля.
В истории европейской философии, кажется, до сих пор осталось «незамеченным», что открытие Сократа до неприличия расходится с общими принципами рационального познания действительности, устанавливая новое пространство метарациональной духовности, преодолевающей в опыте бытийную (природную) несвободу родовых установок обыденного мышления. К примеру Ф. Х. Кессиди, упоминая о фундаментальном различии науки и нравственности, выявленном расхождении между сущим и должным, по сути сводит различие между Сократом и Аристотелем более к «различию умонастроений, чем их конкретных взглядов», полагая «правдоподобным взгляд, согласно которому Сократ, не отрицая очевидных фактов, давал им собственное толкование и потому употреблял термин „знание“ в необычном смысле… Аристотель же апеллировал к обычному языку» 234 234 Кессиди Ф. X. Сократ. М.: Мысль, 1988. С. 230.
. Однако, с учетом радикальных поправок на духовный опыт, связанный с христианством, открытие Сократа на самом деле означает открытие духовного «инобытия» (инверсии) разума – духовности как «опытности», отличной по бытию от рациональности привычных и «общезначимых» форм сознания.
Опыт жизни и деятельности Сократа учит, что философский акт в основе своей как личный духовный опыт всегда непостижим, непроизволен – единственен в своем роде , и в силу этого обладает всей полнотой духовного творчества (вдохновения), духовного прозрения сквозь предвзятые, предзаданные мышлением границы человеческого бытия в мире. Не рационально, не природно, а гибельно – огненно и духовно – личность проходит сквозь все «мирские» определенности родовой жизни, высвечивая собой их относительный (к субъекту) и вместе с тем необходимый (к миру, к объекту) характер. Философские «смыслы» – предельные, гибельные состояния человеческого бытия в мире, его прохождения над разрывами собственной непотаенности. Напротив, обыденность сплошь абстрактна и понятийна. «Быт» насквозь рационален и необходим. Их торжество и характерно для догматических периодов в истории философии. Но рано или поздно эти периоды обречены сменяться творческими взлетами духа, несущими с собой онтологическое прозрение человеческой свободы – ее неотмирности и недискурсивности.
1999—2000
К христианским истокам
(Против метафизики всеединства) 235 235 Первоначально – «К проблеме аутентичности христианской мысли в границах русской религиозной философии».
Исторически проблема соответствия христианской философии собственным духовным первоистокам обнаруживает себя в моменты творческого пробуждения самобытной христианской мысли, отчетливо формулируется в периоды «теургического беспокойства» (Н. А. Бердяев) и церковного брожения, когда возникает необходимость самоопределения относительно новых реалий как внутрицерковной, так и общесоциальной жизни. В целом ее постановка свидетельствует о внутренней силе и жизнеспособности христианства. Так было и в момент наивысшего расцвета русской философии – в период религиозно-философского ренессанса конца XIX – начала ХХ вв., с самого начала проходившего под знаком обновления религиозного и церковного сознания. Даже тот факт, что, вопреки ожиданиям, результатом грандиозных философских построений Вл. Соловьева, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского и еще целой плеяды талантливых русских мыслителей, так и не явилось создание официальной православной философии по типу томистской в католицизме 236 236 В то же время, само обозначение «православная философия», очевидно, применимо не только к отдельным мыслителям, но и к целым течениям русской мысли, далеко раздвинувшим интеллектуальные и культурные горизонты философии духовных академий.
, косвенно – опять же через постановку указанной выше проблемы – свидетельствует о внутренней неисчерпанности русской религиозной мысли (хотя внешне и прерванной катастрофическими событиями ХХ века).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу