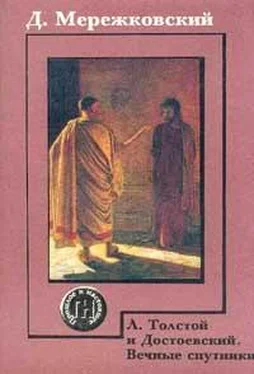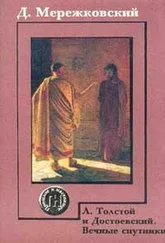Вронский не мог понять, как она, со своею сильною, честною натурой, могла переносить это положение обмана и не желать выйти из него; но он не догадывался, что главная причина этого была то слово сын , которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и о его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно за то, что она сделала, что она не рассуждала, а, как женщина, старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями и словами, с тем чтобы все оставалось по-старому и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном.
– Я прошу тебя, я умоляю тебя, никогда не говори со мной об этом!
– Но, Анна…
– Никогда. Предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего положения я знаю; но это не так легко решить, как ты думаешь.
Действительно, это не так легко решить, как думают все. Уйти от мужа? Забыть прошлое и начать новую жизнь? Но ведь вот – глаза у Сережи совсем такие же, как у отца. Она не может их видеть, не может подумать о них. И никуда не уйдет она от этих глаз – из-за них и погибнет. Не может она не быть навеки женою своего мужа, потому что не может не быть навеки матерью своего сына. Это связь крови и плоти, «связь души с телом»; чтобы порвать ее, надо порвать нить самой жизни, и, действительно, она, порывая ее, убивает себя.
А был другой исход: надо было пожертвовать своим оргийным сладострастием своему материнству, своею плотью своему духу, потому что дух свят, а плоть грешна, потому что духовная Анна – истинная, а плотская – ложная, не «настоящая» . Так опять-таки думает сама она и Л. Толстой, и Достоевский, и все читатели романа, и вся дневная , явная при свете двухтысячелетнего исторического дня, христианская культура, от пустыни, где спасалась святая Мария Египетская, до той пустыни, в которую зовет яснополянский отшельник.
Анна отвергла этот единственный исход и погибла, казненная по закону божеского правосудия: «Мне отмщение, и Аз воздам». Вот опять-таки дневная, явная мысль произведения. Понятная, принятая всеми. Но так ли это на самом деле? Единственная ли это и самая ли глубокая мысль художника? Нет, кажется, и в «Анне Карениной», так же как во всех созданиях Л. Толстого – «ночь глубока и глубже, чем думал день», по слову Заратустры, die Nacht ist tief und tiefer, als der Tag gedacht . Кроме этой дневной мысли, тут есть и другая, тайная, для самого художника бессознательная, ночная мысль.
Чтобы измерить всю ее глубину, надо пристально всмотреться и в другое, «не настоящее», будто бы, не «христианское» «я» в существе Анны. Что же это за «я»? Откуда оно и куда идет? И главное, в каком религиозном отношении находится это второе «я» к первому, настоящему, будто бы, христианскому?
Анна возвращается из Москвы в Петербург, еще совершенно невинная, целомудренная, даже в самых тайных мыслях своих. «Ну, все кончено, и слава Богу! – думает она, сидя ночью в вагоне. – Завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по-старому». Вдруг вспомнила она Вронского и чуть вслух не засмеялась от радости, беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются все больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то давит дыханье, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. «Что там на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая? » Вот первое сомнение Анны в единстве и подлинности своего «я»; вот первая, чуть видимая трещина великого раздвоения. В этом бреду жизни, чрезмерного здоровья, она могла бы сказать то же, теми же словами, что скажет впоследствии, в бреду болезни и смерти – только в обратном смысле: «Я все та же, но во мне есть другая… Та не я. Теперь я настоящая, я вся». – «Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало ее в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться». Все смешалось; она окончательно впадает в забытье. «Анна почувствовала, что она провалилась, но все это было не страшно, а весело ». Потом, когда выходит она на площадку вагона, «метель и ветер рванулись ей навстречу. Ветер как будто только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее. – Буря рвалась и свистела между колесами вагонов, по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, – было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновенье буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей». В этой-то ледяной буре Вронский говорит Анне первые слова любви. «И в это же время, как бы одолев препятствия, ветер посыпал снег с крыш вагонов, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди, плачевно и мрачно, заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком». И, когда она вернулась в вагон, «напряженное состояние не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое… Но в этом напряжении не было ничего неприятного и мрачного, напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу