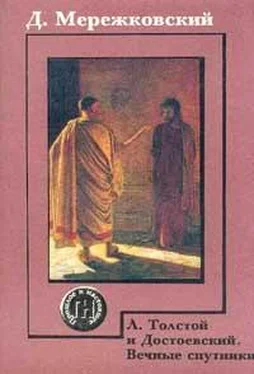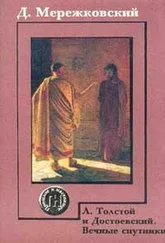Привидения Достоевского отнюдь не противоречат нашей диалектике, «отточенной, как бритва», нашей критике познания, «критике чистого разума» – всему твердому, точному, трезвому, опытному, математическому, «евклидовскому» в нашем уме; напротив, отсюда-то они и почерпают свою главную силу – возможность своей действительности , если бы они были только действительными, то были бы доступнее, человечнее, слабее, понятнее; но именно из этой сомнительной возможности своего реального значения, из этого неразрешенного и неразрешимого вопроса, который они нам задают, возникает их новый, еще небывалый в мире ужас.
В «Идиоте» чахоточный юноша Ипполит, в одном из своих предсмертных снов, видит какое-то чудовищное насекомое, которое заползло к нему в комнату. «Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно тем, что таких животных в природе нет и что оно нарочно у меня явилось. – Я его очень хорошо разглядел: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад, длиной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста не больше десятой доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, недлинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика и на конце хвоста и на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапками и хвостом, и когда бежало, то и туловище, и лапы извивались как змейки, с необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. – Оно пряталось под комод, под шкаф, заползало в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Я надеялся, что оно не всползет на стул. Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест; я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моей головой, и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с чрезвычайною быстротой».
«Длина четыре вершка», «толщина два пальца», «восемь усиков», «угол в сорок пять градусов» – какая геометрическая точность, какое «евклидовское» построение призрака! Ужас бреда, выраженный в числах. Как в Апокалипсисе: «Имеющий ум – сочти число зверя». Математика не только не уменьшает ужаса и тайны, а, напротив, увеличивает их. Этот зверь напоминает фантастические и, однако, столь естественные чудовища, «карикатуры на животных», в научных дневниках Леонардо да Винчи. Никогда не изображает Достоевский своих реальных действующих лиц с такими чувственными подробностями. Мы видим тело этого призрачного насекомого с неменьшею ясностью, чем тело Фру-Фру или Анны Карениной.
«Я предчувствовал, – замечает Ипполит, – что в звере заключается что-то роковое, какая-то тайна». И для дяди Ерошки в «Божьей твари», в Звере есть тайна, есть недоступная человеку Божеская мудрость. «Зверь знает все», – говорит дядя Ерошка; но, может быть, и Зверь Достоевского, «новая тварь» – тоже знает все? Мы увидим впоследствии, что, действительно, существует глубочайшая связь между этим Зверем-Дьяволом Достоевского (его излюбленные герои – Версилов, Ставрогин, Свидригайлов, Рогожин, Дмитрий и Федор Карамазовы – кажутся иногда, как сам он выражается, «насекомыми», «сладострастными и злыми пауками», «тарантулами» в человеческом образе) – и Божьей тварью, Зверем Л. Толстого.
Когда в кошмаре Ипполита огромная черная собака его, Норма, вбегает в комнату, бросается на гадину и хочет ее перегрызть пополам, то насекомое жалит ее в языке, так что она визжит и воет, и мы как будто на мгновение чувствуем, что не все – бред в этом бреду, что здесь решается какая-то наша собственная, реальная, хотя и премирная судьба, просвечивает какая-то действительная тайна, с которой мы связаны не только по ту, но и по сю сторону явлений: «Все, что у вас, есть и у нас» .
Мы не знаем, да пока и не можем знать, чем кончится поединок злого и доброго Зверя. – «Тут я проснулся, и вошел князь», – заключает Ипполит. Но то, что началось во сне, будет продолжаться наяву – в поединке «святого» князя Мышкина с «жестоким и сладострастным насекомым» – реальнейшим из реальных, купеческим сынком Рогожиным: сон углубится явью, как зеркало зеркалом.
Не только призраки у Достоевского преследуют живых, но и сами живые преследуют и пугают друг друга, как призраки, как собственные тени, как двойники.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу