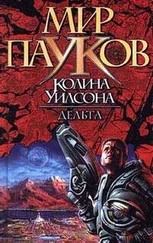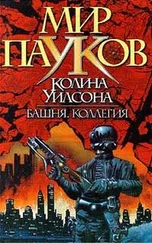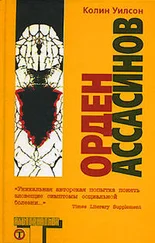В 1741 году завершив свое шествие по Англии, «Памела» перешагнула на континент. К вящему своему удивлению и удовольствию, Ричардсон был провозглашен великим моралистом-реформатором и уникальным литературным гением. Некоторые дамы, разумеется, выражали свои сомнения по поводу достоверности сцены изнасилования, но в целом, было очевидно, что все удовлетворены высоким нравственным содержанием книги. Редким художественным чутьем Ричардсон сумел создать верное сочетание реалистичности сексуальной сцены и морализаторства.
Как и водится, вслед за похвалой последовала критика. Множество менее удачных собратьев Ричардсона по перу нашли в его книге двойственную позицию. С одной стороны, священники с церковных кафедр по праву могли восхвалять «Памелу» , сравнивая ее добродетель разве что с библейскими рассказами. Но, с другой стороны, речь идет вовсе не о вознагражденной добродетели; напротив, вознаграждение получила настойчивость Памелы в умении продать собственную девственность ценой, ни в коем случае не меньшей брака. Так можно ли называть добродетелью столь коммерческий расчет? Слава писателя вновь вернулась на родной остров, приобретя теперь черты весьма нелестной пародии под названием «Шамела» (по всей вероятности, принадлежавшей перу Генри Филдинга), в которой Памела была разоблачена как женщина, в действительности лишенная каких бы то ни было моральных принципов, а сквайр Б. предстал жертвой интриги, направленной на то, чтобы связать его узами брака. (Более поздняя пародия Филдинга под названием «Джозеф Эндрюс» была более конструктивна и по праву стала классикой жанра; на этот раз речь шла о брате Памелы Джозефе, защищавшем собственную добродетель от нападок ненасытной леди Буби). Литературный мир Лондона был одержим «Памелой» , и серия книг, озаглавленных «Анти-Памела» , была лишь частью литературного ремесленничества начала сороковых годов восемнадцатого века.
Однако нападки, сатиры и пародии лишь усилили популярность книги. Ричардсон приступил к написанию продолжения романа, в котором Памела узнает о неверности своего мужа, но в результате прощает его, и все заканчивается сценой примирения. Новый роман шел нарасхват, ничуть не уступая в этом своему предшественнику и доказывая тем самым, что сексуальные сцены не были тем единственным, что искал в нем читатель. Отзывы посыпались с новой силой. Доктор Джонсон высказал мысль о том, что Ричардсон «расширил знание о человеческой природе», а Дидро говорил, что «Памела» заставляет его в действительности переживать события, описанные в романе, — комментарий, который как ничто лучше объясняет популярность Ричардсона.
Теперь, с высоты двадцатого столетия мы можем сказать, что даже самые убежденные поклонники Ричардсона не смогли уловить неординарность его творческого достижения. Доктор Джонсон, будучи в высшей степени расположен к Ричардсону, в ответ на то, что этот пожилой владелец типографии мог бы стать одним из величайших новаторов в истории литературы, наверняка разразился бы своим рычащим брюзжанием («Ваши чувства, сэр, идут Вам больше, нежели Ваш ум.»). Однако сегодня мы можем говорить о значении Ричардсона не как писателя, расширившего наши познания о человеческой природе, — совсем нет, — но как писателя, освободившего человеческое воображение .
Теперь, погружаясь в цвета наших телевизионных экранов и переносясь через пространство вплоть до Самарканда — или даже до Луны, — мы практически не имеем реального представления о том, что значило родиться три или четыре столетия назад. Произнося слова «Англия Шекспира» или «Лондон Джонсона», мы воскрешаем в нашем воображении разноцветные картинки с торговыми судами на Темзе и многочисленными тавернами и кофейнями на берегу. На самом деле главной характеристикой жизни в то время была ее абсолютная монотонность. Представления об этом мы можем получить отчасти из тех русских романов девятнадцатого века, которые описывали жизнь в маленьких деревнях и заштатных городках, где, казалось, ничего не происходит; этот образ ближе к истинной Англии Шекспира. Разумеется, в ней существовали театры, но лишь в крупных городах. В ней были книги — и даже романы, но лишь богатые люди могли себе позволить их купить; и, наконец, большинство людей было просто неграмотно. Большинство людей жило и умирало, будучи не в силах заглянуть за пределы той повседневной рутины, в которой существовали их родители и предки. С рождения они находились за огромной стеной, не будучи в состоянии увидеть то, что творилось за ее пределами.
Читать дальше