У начального местонахождения «ниоткуда» появляется дополнительное значение, благодаря указанию на удаленность от «ангелов и самого». В данном случае на место опущенного элемента можно подставить «Бога». Олимпийская высота первого периода подменяется пустотой, в которой нет высших сил.
Но возможно и иное прочтение этих строк. Оборванное выражение «больше, чем ангелов и самого» — это фигура, которую можно назвать ложным анжебеманом [78] В данном случае анжебеман (ритмический перенос) явно ожидаем, однако его нет. Потому его можно назвать ложным. В этом стихотворении встречается и второй пример использования этого приема: «За морями, которым конца и края». Строчка опять синтаксически оборвана, хотя и подразумевается, что морям «конца и края нет». Однако если в этом выпадающий элемент невариативен, то в первом случае это не так. Таким образом, ложный анжебеман можно определить как один из приемов, работающих у Бродского на полисемию лирического высказывания.
. Завершить фразу можно как минимум двумя способами — «самого Бога» и «самого себя». Если остановиться на втором варианте, лирический сюжет направляется в неожиданном направлении. Получается, что в настоящем, потеряв связь с адресатом, лирический субъект теряет самого себя. Таким образом, из «ниоткуда» взгляд лирического субъекта, направленный в прошлое, выхватывает и свое — земное — человеческое «я».
Примечательна логика связи между двумя стихами второго периода: «я любил тебя» «и поэтому (курсив мой. — В. К.) дальше теперь от тебя». Сама любовь здесь — причина разрыва с адресатом. Эта логическая связка парадоксальна, поскольку в ней сталкиваются две ценностные позиции — позиция человека, любившего в прошлом другого больше всего на свете, и данная тут же позиция человека, оценивающего эту любовь из «ниоткуда» настоящего. Только этот — второй — вненаходимый лирический субъект мог оценить следствия любви. «Поэтому» — элемент вненаходимого поэтического сознания.
Третий период — самый длинный (8 строк), однако самый динамичный — в том числе на уровне ритма: на третий период приходятся два отклонения от ритмической нормы в сторону укорочения стиха; один из таких стихов завершает стихотворение в целом («как безумное зеркало повторяя»).
Начинается финальный период обнаружением лирического субъекта в пространстве: «поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне, / в городке, занесенном снегом по ручку двери, / извиваясь ночью на простыне…». Динамика пространства очевидна — от общего к частному, с высоты «на самое дно». Сначала от «ниоткуда» к «континенту», населенному ковбоями. Во втором периоде оказывается, что это местоположение «дальше… от тебя», чем раньше, когда «я любил». Теперь к «уснувшей долине», где в одном из домов занесенного снегом городка извивается «ночью на простыне» лирический субъект. Таким образом, пространство внешнее — от континента до городка — обрамляется, с одной стороны, отсутствием пространства и времени, с другой — интимным пространством внутри дома. Тем самым внешнее пространство в каком-то смысле оказывается освоенным поэтическим сознанием и мировоззренчески, и эмоционально. Между тем, показательно движение взгляда — всматриваясь в пустоту, лирический субъект различает в ней континент, городок и, наконец, себя, находящегося на пике человеческой драмы.
Динамика лирического «я» весьма показательна — сначала позиция в настоящем «ниоткуда», потом «я любил», связанное с прошлым, теперь абстрактное поэтическое сознание одевается в плоть; и драма этого физически данного «я» — в настоящем («взбиваю подушку»). Четко обозначились две позиции поэтического сознания. С одной лирический субъект в роли автора обращается к неизвестному адресату, во второй — в роли лирического героя переживает разлуку с возлюбленной. Обе эти позиции — в настоящем, хотя полнота существования земного человеческого «я» связана с прошлым. Но лирического героя невозможно «взять с собой» туда, где время и пространство уже не играют роли. Человеческое «я» остается как обуза в том мире, предметность которого всецело проникнута ценностным контекстом утерянного адресата.
В третьем периоде появляется новый образ внешнего мира — «моря, которым конца и края». Уже было упомянуто, что пространство, которое мелькало до сих пор, фактически приравнивалось к нигде-«ниоткуда»; городок, занесенный снегом, был частью пространственной вертикали от «ниоткуда» до «простыни». «Море» с его характеристикой бесконечности — это образ, расширяющий художественное пространство по горизонтали. Это пространство мира земного лирического «я» — пространство, разделяющее лирического субъекта и конкретного адресата его послания. Внешний мир здесь впервые оборачивается отдельной непреодолимой онтологической силой, не только разделяющей субъекта и адресата, но и фактически определяющей их судьбу.
Читать дальше
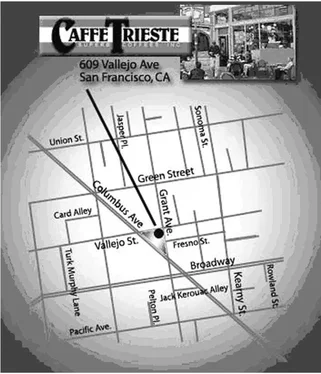
![Коллектив авторов - Кулинарная книга анархиста [Сборник рецептов]](/books/29797/kollektiv-avtorov-kulinarnaya-kniga-anarhista-sbor-thumb.webp)










