Можно рассчитывать, что пристальное прочтение первого стихотворения позволит определить основные ценностные контексты, представленные в цикле в целом. Определение основных «собеседников» поэтического сознания предполагает и фиксацию основных направлений развития лирического сюжета. Каждое из таких направлений затем можно проследить особо.
«Ниоткуда с любовью…»: исходная ситуация цикла
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
как не сказано ниже по крайней мере —
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя. [74] Здесь и далее текст цикла «Часть речи» приводится по изданию Сочинения Иосифа Бродского. ТЛИ. СПб., 1997. С. 125–144.
Стихотворение написано одним предложением, что подчеркивает единство лирического высказывания. Композиционно оно делится на три периода, разделенными точками с запятыми.
Первый период, состоящий из первых шести стихов, задает лирическую ситуацию поэтического высказывания. Здесь явственно выделяются два ценностных контекста — лирический субъект, направляющий свое послание, и адресат этого послания. Позиция субъекта в пространстве и времени («ниоткуда», «надцатого мартобря») сразу отгораживает его от мира людей. Впрочем, нужно учитывать, что фраза «ниоткуда с любовью» ко времени написания стихотворения опознавалась как отсылка к популярному фильму о Джеймсе Бонде — «Из России с любовью» (1963). А фраза «надцатого мартобря», вышедшая из «Записок сумасшедшего» Гоголя, еще более уточняла культурную прописку поэтического сознания, благодаря которой, несмотря на откровенные антиопределения себя, на деле лирическое «я» раскрывает себя уже в достаточной мере.
Адресат подается схожим образом: он неразличим, его «черт лица» «не вспомнить уже». Даже пол его неясен — «дорогой», «уважаемый», «милая» [75] Нужно отметить, что В. Куллэ трактует все эти обращения таким образом, что все они могли быть обращены к женщине (Куллэ В. Указ. соч. С. 139). Но, как представляется, такое толкование значительно сужает проблематику стихотворения, поскольку адресат в данном случае гораздо шире. И эта широта толкования образа очевидно заложена в стихотворении.
. Апофеоз характеристик — фраза «неважно даже кто». Характеристики адресата столь широки, что под них попадает всякий читатель. В таком случае говорящий оказывается в роли вообще автора. Далее мотив онтологического различия между лирическим субъектом и адресатом становится более интенсивным и меняется качественно. Частная чуждость преобразуется в общую — других отношений с представителем внешнего мира у лирического субъекта, похоже, и быть не может — «не ваш, но / и ничей верный друг». Невозможность коммуникации с самого начала задана как норма. Тем эффектнее на ее фоне звучит торжественное «вас приветствует». Это приветствие направляется «с любовью», несмотря на ряд перечисленных «но», которые не дают оснований для такого обращения. Это — стоическое приветствие в непроницаемую пустоту будущего. Примечательно, правда, что все эти «но» связаны с намерением о сознании лирического субъекта говорить «откровенно», начистоту.
Как только звучит прямо окрашенное присутствием лирического субъекта приветствие, пространство становится определеннее: «приветствует с одного / из пяти континентов, держащегося на ковбоях». Предполагается, что эта определенность не отменяет позиции «ниоткуда». Но наоборот — конкретное пространство США, страны, узнаваемой по «ковбоям, как бы уравнивается с «ниоткуда»: из Америки — все равно, что «ниоткуда».
Второй период самый короткий — лишь две строки: «я любил тебя больше, чем ангелов и самого, / и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих». Эти строки фактически разрушают исходную лирическую ситуацию и вносят интригу в лирический сюжет.
Позиция лирического субъекта меняется. Исчезает пространственно-временная неопределенность. «Я любил» — первое лично-человеческое высказывание с высоты «ниоткуда». «Любовь» в первых словах стихотворения «ниоткуда с любовью» воспринималась как такой же этический формализм, как и само приветствие. Мотив любви воспринимается в контексте «обращения с головокружительной поднебесной высоты», как элемент «стоического жеста имперского поэта» [76] Куллэ В. Там же.
. Однако, как только лирический субъект признается: «я любил», мотив любви оказывается увязан с прошедшим — в данном случае грамматическим — временем; он предстает теперь как глубоко личный. И адресат теперь совершенно определенный. Но «я любил» — мотив именно прошедшей любви, а значит любви вспоминаемой и порождающей драматическое несоответствие ситуации прошлого и настоящего. Таким образом, уже первые слова второго периода создают эффект перехода от почти вне-личной поэтической речи к высказыванию о самом сокровенном [77] Этот переход подмечает и М. Крепс: «Из иллюзорного мира гоголевского сумасшедшего вдруг происходит резкий скачок в реальность — поэт ночью, лежа в кровати, болезненно ощущает разлуку с любимой не только мозгом, но и телом, которое страдает не меньше, чем мозг, заставляя поэта извиваться на простыне» (Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. СПб., 2007. С. 184).
.
Читать дальше
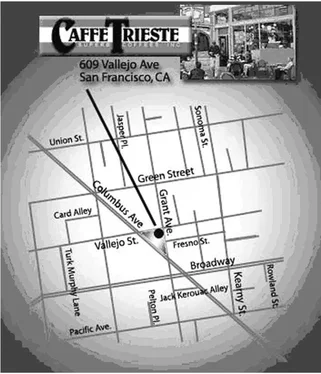
![Коллектив авторов - Кулинарная книга анархиста [Сборник рецептов]](/books/29797/kollektiv-avtorov-kulinarnaya-kniga-anarhista-sbor-thumb.webp)










