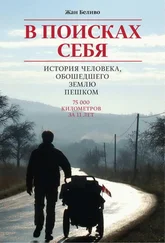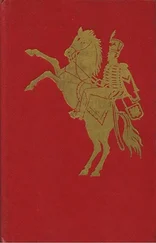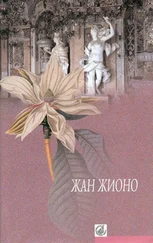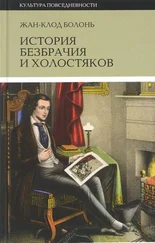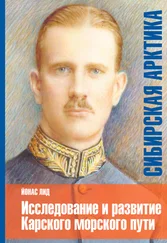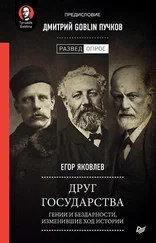Жионо готов отказаться от позиции «всезнающего» автора, каким, в сущности, является лирический герой его ранних «крестьянских» романов. Он видит и показывает нам только то, что видит, в чем участвует главный персонаж. Мы не знаем того, чего не знает Анджело, — судьбы большинства встреченных им людей: что произошло с монахиней, которой Анджело помогал в городе ухаживать за больными, хоронить умерших, как сложилась дальнейшая судьба Полины Тэюс, других людей-все это остается «за кадром».
Анджело — «стендалевский» персонаж. В предисловии к «Пармской обители» Стендаль писал: «Действующие лица у меня — итальянцы… сердца итальянцев сильно отличаются от сердец обитателей Франции; в Италии люди искренни, благодушны и небоязливы, говорят то, что думают, тщеславие находит на них лишь временами, но тогда оно становится страстью, именуемой puntiglio. И наконец, они не смеются над бедностью». Всеми этими качествами обладает и Анджело. В нем есть нечто от Жюльена Сореля, но еще больше — от Фабрицио дель Донго, итальянца. Фабрицио, воспитанный графиней Пьетранера и ее мужем, генералом гвардейской дивизии, уже в 12 лет был офицером и носил гвардейский мундир. Анджело, внебрачный сын герцогини Парди, был немного старше, когда мать купила ему полковничий патент. Оба они, и Анджело и Фабрицио, свободны от социального принуждения и гнета, они свободны выбирать свое поведение в соответствии со своим собственным представлением о нем. Тот и другой склонны в трудные моменты жизни смотреть на себя как бы со стороны, оценивать свои поступки; «Анджело никогда не имел случая быть на поле сражения… Он часто говорил себе: каким я буду выглядеть на войне?». Такой же вопрос задавал себе Фабрицио перед битвой при Ватерлоо. Героям Стендаля и Жионо свойствен страх показаться смешными в глазах других людей, но они старательно преодолевают, а не скрывают свои слабости. Вместе с тем главное, полагает Анджело, «не в том, чтобы другие знали, что я чего-то стою, и признавали мои достоинства; главное, чтобы я это знал. Я более требователен, чем они. Я требую от себя неоспоримых доказательств».
Природное благородство, любовь к родине привели Анджело к итальянским патриотам, сделали участником заговора, многие члены которого оказались в тюрьмах или были расстреляны. Однако в его мыслях и действиях есть нечто, отличающее его от тех, кто условиями самой жизни был вынужден бороться за свободу родины. «Его душа, — пишет Жионо, — не понимала всей серьезности социального, того, как важно быть в нужном месте или по крайней мере в партии, которая раздаст места. Он всегда смотрел на свободу, как верующий смотрит на Деву». И еще: «Как только он думал о свободе, он видел ее в образе прекрасной, молодой и чистой женщины».
В романе звучит мысль самого Жионо о революции, о смысле освободительных движений. Не случайно рядом с Анджело появляется фигура Джузеппе, его молочного брата, простого итальянца. О нем и ему подобных Анджело говорит: «Они совершают революцию, чтобы стать герцогами» («Тот станет всем…»), самому же ему чужды те цели, которые ставили присоединявшиеся к карбонариям крестьяне. Не мог принять Анджело и самого принципа революционного насилия. Он убил на дуэли барона Шварца за то, что тот выдавал республиканцев австрийскому правительству, хотя расправиться с предателем было проще руками наемного убийцы. Поступая так, Анджело руководствовался своим кодексом чести, но не революционными соображениями. Именно за это Джузеппе и упрекает Анджело: «Дело не в том, что тебе нужно самому, а в том, что нужно делу свободы… В убийстве больше революционной добродетели».
Мысли героя Жионо иногда словно колеблются между двумя полюсами — необходимостью самоутверждения (не исключающей готовности жертвовать собой ради исполнения нравственного долга) и признанием главенства революционного, патриотического действия. С одной стороны, полагает Анджело, «первая доблесть революционера — искусство поставить других по стойке «смирно», и вообще — прежде чем дать народу свободу, не нужно ли сперва стать его хозяином?». С другой — он готов признать: право говорить о родине имеешь лишь тогда, когда знаешь, что «любой пахарь и весь basso continuo незаметных жизней служат ей гораздо надежнее… нежели все карбонарии».
Как и в романах Стендаля, у Жионо в «Гусаре на крыше» появляется тема Наполеона. Наполеон был кумиром Жюльена Сореля и Фабрицио, но у Стендаля он же был «народным» императором, при котором любой человек мог занять подобающее ему место независимо от происхождения. Мы помним разговор каменщиков, подслушанный Жюльеном и вызвавший у него сочувствие. «Да, когда тот был, — рассуждает один из них об объявленном рекрутском наборе, — что же, в добрый час! Из каменщика ты офицером делался, а то и генералом, видали такие случаи». «Вот ведь какая получается разница, — отвечает другой, — как дела-то при том шли!»
Читать дальше
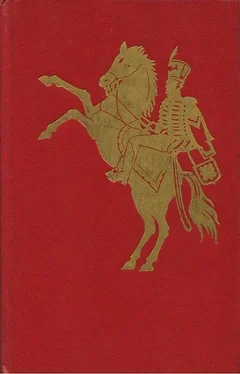
![Миньона Яновская - Очень долгий путь [Из истории хирургии]](/books/28917/minona-yanovskaya-ochen-dolgij-put-iz-istorii-hir-thumb.webp)