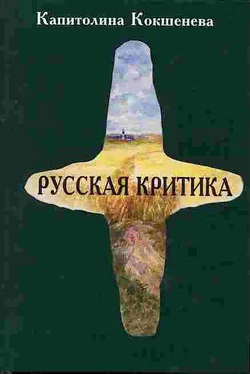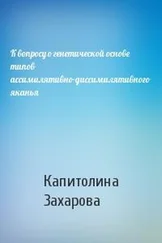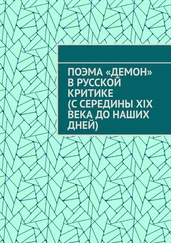Между тем, спектакль довольно крепко держит внимание зрителей — в первую очередь актерскими работами (естественно, динамичность режиссуры Беляковича у него никто не отнимает). Мхатовские актеры в начале XXI века играют не «тесноту отношений», не невыносимое вынужденное соседство, но напротив — они скорее включены в борьбуза «правду» о себе, — в борьбу за настоящесть хоть какой-то малой, хоть какой-то прежней или будущей частицысвоей жизни. Тут важна эта взаимная «вцепленность» друг в друга: с истерическим отчаянием будет доказывать Настя (арт. Т.Г.Поппе), что и у нее была роковая любовь. Эта придуманная любовь играется актрисой с предельной горячностью, но с еще большим ревнивым рвением она будет не любовь защищать, но требовать от других верыв нее. И тогда уже способность или неспособность верить хотя бы друг другувыступает в спектакле мерой живой или мертвой души. Парадоксальная получается ситуация: чтобы выжить в ночлежном аду, в жуткой, оскорбительной тесноте соседства, когда и умереть спокойно нельзя — им всем просто необходимо быть равнодушными и безразличными к страданиям другого (Сатин у В.Клементьева тут больше других преуспел, на то он и «философ»). Но не меньшие силы в этом спектакле тратятся на преодоление неизбежногоравнодушия друг к другу. Не случайно каждый из обитателей ночлежки выводится режиссером на авансцену, дается «крупным планом», чтобы прокричать свою боль: от Наташи с ее мотивом обреченного хода собственной жизни (арт. Т.Г.Шалковская) до Барона с его истасканной и жалкой барственностью (арт. А.В.Самойлов) и Актера — с его страстью «разыграть» в пух и прах хотя бы и собственную жизнь (арт. В.Л.Ровинский).
В том-то, и дело, что образ мира, где цинизм «философичен», где бедность может быть наглой, где много разоренного в человеке, а «розовая доброта» Луки (арт. И.С.Криворучко) только усугубляет отчаяние, — в том-то и дело, что мир этот нас больше не страшит. И, кажется, понимая это, Валерий Белякович, одев спектакль и героев в белые одежды, словно отстранил нас от необходимости глубокого сострадания, выдвинув вперед со-мыслие спектаклю. Мы, наверное, уже в чем-то, увы, «переросли» горьковских людей дна — когда вся страна уходила на дно, некуда пойти было слишком многим; когда нынешняя свобода показала свой звериный оскал — тоска о свободе босяков воспринимается как «излишек»; ну а «босяцкий» горьковский романтизм уже никак не может пониматься в его положительности…
Еще раз подчеркну — диалог с классиками предполагает со-пряженность отношений. Но наши усилия понимания «их» и согласования «с собой» не требуют простого повторения известного, — классика нуждается не в повторении, а в осмыслении. У нее — своя жизнь: одни смыслы в ней растут, другие — умаляются, третьи остаются вечными. И наличие этого вечного, неразменного позволяет сохранять допустимую меру в диалоге (чтобы Гоголя не превратить в Зощенко, а Достоевского в драму абсурда). Радикальная режиссура, на мой взгляд, как раз не понимает в классике вечного, а потому «ударить кулаком в лицо» классику ей ничего не стоит.
МХАТ им. М.Горького сохраняет с классикой отношения уважительные и порядочные. Булгаков, Достоевский, Островский всегда узнаваемы — в них сохраняется неповторимый собственный сценический дух, ядро их драматургического мира.
«Белая гвардия» М.А.Булгакова была поставлена Т.В. Дорониной пятнадцать лет назад (в декабре 1991 года состоялась премьера). Спектакль звучал пронзительно — он буквально был программным.
В ту пору вопрос о правде «красной» и правде «белой» был самой что ни на есть жгучей реальностью. В «белой правде» настойчиво искали родства и связи с Россией исторической, в которой «Православие, самодержавие, народность» были реальными государство- и культурообразующими силами. В «белой мысли» тогда искали опору национальной идее — справедливого (монархического) устройства государства в «пику» тому, что рушилось на глазах в 1991 году. Стоит вспомнить дебаты, митинги и интеллектуальные собрания тех лет — их горячечную накаленную атмосферу, чтобы понять, какзвучал тогда спектакль в режиссуре Т.В.Дорониной, поставившей, к тому же не «Дни Турбинных», а первоначальную редакцию булгаковской пьесы!
Поразителен пролог спектакля: в белых смертных одеждах выходят актеры на авансцену. Никого не пощадит революционное время — все погибнут. И как-то трудно назвать «музыкальным оформлением» пролога возглашения дьякона, призывающего к молитве о помиловании. И мы вспомним о ней вновь уже в финале спектакля, когда пять мужчин, пять офицеров, выхваченных светом лампы, остаются в безмолвии перед закрытием занавеса — теперь уже нам, зрителям, хочется шептать слова молитвы…
Читать дальше