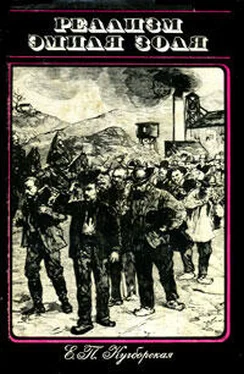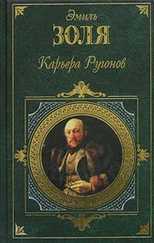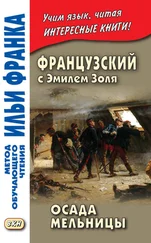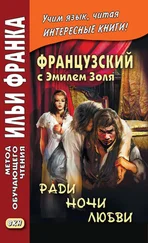Антидемократическая высокомерная декларация Гонкура была твердо и определенно отвергнута Золя: «Нельзя разом „исчерпать“ столь обширное поле для наблюдений, как народ… Мы дали народу права гражданства в мире литературы и тут же заявим, что тем, кто придет после нас, уже нечего будет сказать о народе! Но ведь мы могли кое в чем и ошибиться, во всяком случае, мы не могли увидеть все!» [39] Э. Золя. Собр. соч., т. 24, стр. 436.
.
За «Жермини Ласерте» — книгой, где писатели близко подошли к реальной, социально обусловленной жизненной драме простого человека, дав, по мнению Золя, «превосходную картину кровоточащей человеческой души», последовали произведения, в которых, при сохранении точной детализации и тонкости психологического рисунка, разрушается структура романа, распадается композиция, исчезает целостный образ. Описания психологических состояний, освобожденные от социальных мотивировок, приобретают все большую изощренность, утонченность. В «Дневнике» Э. Гонкур упоминает, что пытался ввести «дематериализующие факторы» в роман «Госпожа Жервезе» — последний, над которым он работал совместно с Жюлем, и затем в «Братья Земганно», «Фостен». Присутствие этих факторов в «Госпоже Жервезе» ощущается в полной мере, ставя роман на грань декадентской прозы.
«Братья Земганно» — книга, в которой живут воспоминания и автобиографические мотивы звучат искренне, взволнованно, лирично, занимает в этом ряду особое место.
Все остальное, написанное Эдмоном Гонкуром после смерти брата, приближается к эстетической программе, изложенной в предисловии к последнему его роману «Шери» (1884 г.), в котором натуралистический физиологизм принимает формы, близкие декадансу, а бессюжетность выступает как главный принцип повествования: «Чтобы окончательно стать великой книгой современности, роман в своей последней эволюции должен превратиться в книгу чистого анализа». Эти критерии были совершенно приемлемы и для антиреалистической литературы, полностью замкнутой в сфере описания субъективных ощущений.
Капли бальзаковской крови, если воспользоваться выражением Золя, больше всего ощущались именно в произведениях его серии «Ругон-Маккары». Эмиля Золя увлекало творческое развитие всего того, что было заложено в реализме Бальзака; и он был твердо уверен, что новое время, новые события выдвинули проблемы, которые или еще не возникали при жизни Бальзака, или не получили в «Человеческой комедии» разрешения.
На рубеже 60—70-х годов, перед новым поворотом в исторических судьбах Франции, именно Золя стал писателем, который взял на себя задачу создания крупного цикла романов. Самый тип повествования, выработанный автором «Ругон-Маккаров», сохранял связь с традициями критического реализма, внося в историю большой разветвленной семьи черты социальной эпохи, давая широкую по масштабам охвата действительности картину частной и общественной жизни в период Второй империи.
Монументальная эпопея Золя, написанная с широким размахом, лишь формально заключена в рамки Второй империи, от государственного переворота 1851 года до «груды костей под Седаном»; от «Карьеры Ругонов» до «Разгрома». Работа над серией проходила в условиях становления и развития Третьей республики. Картины жизни Второй империи, созданные писателем, исторически связаны с позднейшим развитием буржуазной Франции, отражают процессы, которые, начавшись во время Второй империи, получили свое полное развитие лишь в конце столетия. Сосредоточив в себе огромный социально-исторический материал, охватывая действительность в движении и изменении, некоторые романы Золя запечатлели важные итоговые черты определенного периода, что придавало им особую актуальность в годы Третьей республики, когда они выходили в свет.
Летопись семьи уже в первых книгах серии выросла в картину жизни различных классов Франции. Семейные линии раскрылись в широких социальных связях, а открытые контрасты, пронизывающие всю серию, подчеркивали авторскую концепцию. На страницах романов предстала история: «Империя, возникшая на крови, вначале опьяненная наслаждениями, властная до жестокости, покоряющая мятежные города, затем неуклонно идущая к развалу и, наконец, утонувшая в крови, в море крови, в котором едва не захлебнулась вся нация… Тут и социальные исследования: мелкая и крупная торговля, проституция, преступность, земельный вопрос, деньги, буржуазия, народ — тот, что гниет в клоаках предместий, и тот, что восстает в крупных промышленных центрах, — весь бурный натиск побеждающего социализма, несущего в себе зародыши новой эры…»
Читать дальше