И самой Марии Павловне никогда не изменяло чувство юмора. Не изменяла ей и необыкновенная общительность.
До самых последних лет она любила принимать гостей и устраивать у себя в чеховской гостиной за широко раздвинутым столом ужины, длившиеся до поздней ночи. Она сидела во главе стола, прямая и стройная, живо откликаясь на все, о чем шла речь. Трудно бывало поверить, что ей уже девяносто и даже за девяносто лет.
Кстати, она терпеть не могла упоминания о ее возрасте и во время игры в лото шутливо, а может быть, и всерьез сердилась, когда выпадало ненавистное ей число 90.
Мария Павловна была неутомимой и зоркой хозяйкой. Несколько раз в день поднималась она и спускалась по лестнице, ведущей в ее комнату. Помню, как после долгого ужина, бережно, как ребенка, брал ее, легкую, почти невесомую, на руки Иван Семенович Козловский и, несмотря на ее протесты, уносил наверх.
Я знал немало стариков, хорошо помнивших далекое прошлое. А Мария Павловна отлично помнила не только давно прошедшие, но и недавние годы.
За несколько лет до ее смерти я как-то побывал у нее со своим другом, драматургом и критиком, ныне покойной Тамарой Григорьевной Габбе, блестящей собеседницей, живым и остроумным человеком. Посидели мы у Марии Павловны всего только полчаса. Она не запомнила имени моей спутницы, но в продолжении двух-трех лет каждый раз при нашей встрече спрашивала:
— А где сейчас эта белокурая и такая острая?..
До последних своих дней Мария Павловна любила жизнь, любила радость и шутку. К одному из моих приездов, чтобы порадовать меня, она даже выучила наизусть одно из моих шутливых стихотворений. В ее возрасте это было настоящим подвигом.
После смерти Марии Павловны дом Чехова в Ялте второй раз осиротел. Но до тех пор, пока он стоит, в нем будет жить вместе с Чеховым его самоотверженная, чистая душой, умная и наделенная долей чеховского таланта сестра.
Ялта, 12 октября 1963 г.
<���О Шекспире>
<���Выступление по английскому радио>
Книги, как и люди, не переходят из класса в класс без экзамена. Даже самым знаменитым книгам приходится держать экзамен у каждого нового поколения в каждой стране. И бывает, что книга, мирно и спокойно стоящая на полке, как-то незаметно теряет свою жизненность и остроту. С ней происходит какой-то невидимый химический процесс. Проступает ее скелет-схема, которая была замаскирована недолговечными покровами. Но, к счастью, есть книги, не поддающиеся разоблачающему воздействию времени.
Столетия, прошедшие со дня смерти Шекспира, — достаточный срок для самой строгой и многократной проверки. И какие столетия это были, как много великих событии уместилось в них. В таком бурном океане времени мог бы потерпеть крушение и пойти ко дну самый устойчивый и хорошо оснащенный корабль. Этого не случилось с Шекспиром. Его чествует весь мир, так сильно изменившийся после него. В праздновании его 400-й годовщины наряду с народами старой культуры принимают участие племена, которые в его эпоху были «dull and speechless tribes» [351]и которые наконец заговорили.
Даты юбилеев не назначаются по произволу. Они предопределены. Но для юбилея Шекспира нельзя было бы выбрать более подходящего времени, чем наши дни — время великих подвигов и великих преступлений, время решительной борьбы за гуманизм.
Если многим людям прошлого и начала нынешнего века казались преувеличенными и неправдоподобными характеры шекспировских трагедий и хроник — Калибан, [352]Макбет, леди Макбет, Ричард Третий, Клавдий, [353]Яго и другие, — то последние десятилетия полностью оправдали самую мрачную фантазию великого драматурга. И тем дороже стали человечеству образы Гамлета, Ромео, Джульетты, Корделии [354]— всех тех, кто противостоит людям низменных страстей и темных предубеждений.
Перечитывая Шекспира, с грустью думаешь: как это могло случиться, что до сознания человечества до сих пор не дошли такие простые, четкие, вещественно осязаемые слова о равенстве людей всех рас и национальностей, вложенные Шекспиром в уста Шейлока: [355]«…я жид. Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать — разве мы не смеемся? Если нас отравить — разве мы не умираем?» [356]
Читать дальше
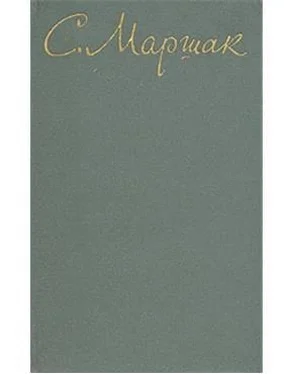

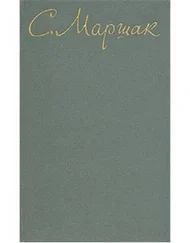
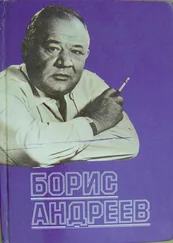

![Юрий Смолич - Рассказ о непокое [Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни минувших лет]](/books/404255/yurij-smolich-rasskaz-o-nepokoe-stranicy-vospominan-thumb.webp)
