Умный и талантливый исследователь, лингвист, теоретик художественного перевода, блестящий лектор, щедрый учитель молодежи, М. М. Морозов оставил после себя светлый и глубокий след в истории нашего литературоведения, в истории советского театра.
А те, кому довелось знать его лично, никогда не забудут милого Михаила Михайловича, до конца, до последних своих дней так сильно, по-детски любившего жизнь.
Вероятно, с тех пор, как существуют переводы, идет спор о пределах точности и вольности.
У нас и в наше время этот спор выходит из рамок теоретических рассуждений и приобретает особую актуальность и остроту.
Целая армия переводчиков знакомит наших читателей со стихами и прозой всех народов Советского Союза и чуть ли не всех народов мира.
Мы успели накопить богатый опыт, который убеждает нас, что стремление к буквальной точности ведет к переводческой абракадабре, к насилию над своим языком, к потере поэтической ценности переводимого.
С другой стороны, чрезмерно вольное обращение с текстом подлинника, так облегчающее работу переводчика, сплошь и рядом приводит к искажению оригинала, к обезличке, стирающей его индивидуальные и национальные черты.
Мне рассказывали, что некий старик, тонкий знаток духов, критикуя парфюмерию, которая выпускалась у нас два десятка лет тому назад, говорил:
— Ах, все эти духи пахнут одинаково! Недаром же на флаконах так и написано: «Те-же», «Те-же» и «Те-же». То есть «ТЭЖЭ».
Эту остроту можно отнести не только к духам, но и к стихам.
Нивелировкой многих произведений национальных литератур объясняется равнодушие читателей почти ко всем издаваемым у нас антологиям. Несмотря на то, что в состав этих объемистых сборников подчас входят — наряду с бесцветными — и замечательные, истинно поэтические переводы, мертвый груз тянет их ко дну, и они устилают кладбища Книготорга. Об этом красноречиво говорят цифры, показывающие, как мало разошлось у нас экземпляров казахской и других антологий.
Что же, неужели наша читающая публика не ценит богатой поэзии народов Советского Союза? Нет, вся беда только в недостаточно тонком и строгом отборе.
Я убежден, что каждая издаваемая книга может и должна стать событием.
В области перевода событиями были не только стихи Жуковского, но и стихотворения, созданные менее крупным, но настоящим поэтом Михаилом Илларионовичей Михайловым (например, его перевод из Гейне «Гренадеры»). Как события были встречены народом переводы Ивана Козлова «Не бил барабан перед смутным полком» и «Вечерний звон». Я не говорю уже о переводах Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, В. Курочкина, Ивана Бунина.
Нет никакого сомнения в том, что, если отжать из наших современных антологий всю ремесленно-переводческую водянистую сыворотку, если работа над их составлением будет любовной, серьезной и творческой, каждая из них тоже окажется событием, а все они вместе внесут в нашу поэзию еще невиданное богатство и разнообразие красок.
Ведь мы располагаем большими силами. В наши дни уже трудно перечислить видных мастеров поэтического перевода. Да и что может дать такое перечисление имен, обязательное на всех писательских съездах и пленумах! Для того, чтобы оценить огромную, я бы сказал, богатырскую по своей трудности и удаче работу этих мастеров, — следовало бы посвятить каждому из них критическую статью, а в ином случае и целую книгу.
Какие замечательные переводы дали нам Борис Пастернак, [325]Анна Ахматова, [326]переводчик греческих эпиграмм — профессор Л. В. Блуменау.
А кто из наших критиков оценил, например, по достоинству поэтический труд Наума Гребнева — «Песни безымянных певцов» и «Песни былых времен»? Гребнев не только чудесно переводит песни народов, но и сам разыскивает их, как ищут клады.
Успела ли наша критика заметить и отметить трудную и большую победу, одержанную Верой Потаповой, которая дала нам прекрасный перевод «Энеиды» Ивана Котляревского! [327]
Не оценены или недостаточно оценены критикой достижения даже наиболее известных и заслуженных поэтов-переводчиков, таких, как Вильгельм Левик, Владимир Державин, Михаил Зенкевич, Леонид Мартынов, Павел Антокольский, Иван Кашкин, Лев Пеньковский, Вера Звягиндева, Николай Чуковский, Борис Слуцкий, Александр Межиров, Давид Самойлов, Инна Тынянова, Яков Козловский, Татьяна Спендиарова.
Но, простите, совершенно нечаянно я занялся здесь все тем же перечислением имен. И перечисляю их не в порядке чинов и рангов и даже не по размерам дарований и заслуг. Может быть, очень талантливые поэты случайно не пришли мне в эту минуту на память и не попали в этот список.
Читать дальше
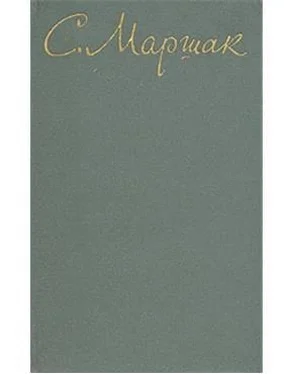

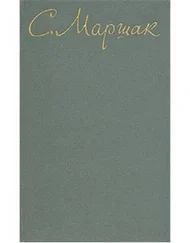

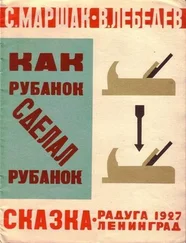
![Юрий Смолич - Рассказ о непокое [Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни минувших лет]](/books/404255/yurij-smolich-rasskaz-o-nepokoe-stranicy-vospominan-thumb.webp)
