А суть ее заключалась в следующем. Где-то в одной из самых глухих деревушек, затерянных среди просторов нашего двора, рождался на свет мальчик, главный герой этой повести-игры. Он подрастал и отправлялся в первое свое путешествие — в ближайший уездный городок. Там он учился, а затем его ждали бесконечные странствия и приключения. Постепенно на его пути вставали все большие и большие города. В конце концов он попадал в столицу, о которой, по правде сказать, у меня у самого было в то время весьма смутное представление.
Судьба моего героя складывалась каждый раз по-иному. Он становился то путешественником, то великим полководцем, то капитаном корабля, то знаменитым дрессировщиком львов, тигров, пантер, мустангов и орангутангов.
Но во всех этих разнообразных вариантах игры было и нечто общее. Преодолевая препятствия, герой выходил из дремучей глуши, из нужды и безвестности на широкую дорогу жизни.
Очевидно, мне и самому мерещился в это время где-то за тесными пределами нашей слободы — Майдана — еще неизвестный мир: большие города, полная приключений жизнь, в которой человек перестает чувствовать себя существом незаметным и затерянным.
Историю этого человека я придумывал целыми часами, сочинял молча, про себя, и все же не мог обойтись в своей игре без чего-то вещественного — без разбросанных по двору щепочек и кирпичей, без палки, которой я водил по земле, бродя от деревни до деревни, от города до города.
Подшучивая надо мной, брат грозил снять моего героя с конца палки, а иной раз даже делал вид, будто и в самом деле снимает его кончиками пальцев. И — как это ни странно — игра сразу теряла для меня всякую достоверность, и мне уж не к чему было водить по земле палкой, на которой больше не было моего воображаемого человечка…
В сущности, в ту пору я еще не знал никакого мира, кроме нашей слободской улицы да нескольких улиц уездного города, где, запрокидывая голову, я разбирал на вывесках непонятные мне слова: «Нотариальная контора», «Общество взаимного кредита» или «Коммерческие номера». (Кстати, по ошибке, я долго читал «комера» и никак не мог понять, почему на этой вывеске слово «камера» пишется через «о» — «комера».)
Впрочем, город в течение первых лет нашей жизни на Майдане был от нас за тридевять земель.
Жили мы в это время обособленно и одиноко. Матери было не до знакомых, — так погружена она была в свои домашние заботы. Да и у нас, ребят, не сразу нашлись на слободке сверстники и товарищи.
Хоть семья наша подчас нуждалась в самом необходимом и обстановка нашей призаводской квартиры была более чем скромной — несколько венских стульев, столов, дешевых железных кроватей, самый простой буфет и ни одного кресла или дивана, ни одной картины на стенах в просторных и почти пустых комнатах, — все же босоногие ребята с вашей улицы относились к нам, как к барчукам.
Мы не играли ни в бабки, ни в карты, не занимались меной голубей. Да и одевались не так, как все.
Не подозревая, на какое глумление обрекает нас, мама сшила мне и брату по журнальной картинке пальтишки из материи кремового цвета с пелеринками. Много раз становилась она перед нами во время примерки на колени, что-то подшивая и перешивая, то отрывая рукав, то снова приметывая его к плечу.
Наконец пальтишки были готовы. В первый же праздничный день мы вышли в них на улицу, отправляясь в город, и тут только с ужасом почувствовали, до чего мы смешны!
Косоглазый мальчишка из компании, игравшей у ворот в карты, подскочил к нам и, скривив в усмешке щеку, спросил:
— Чего это вы балахончики такие надели?
А другой, взлохмаченный, черный, с лицом, измазанным грязью, — будто он только что умылся землей, — дернул меня за пелеринку и заорал во все горло:
— Ну-ка, скидавай юбку! Я ее бабке нашей снесу!
— Это певчие, певчие из ихней церквы! — послышался чей-то голос. — А ну-ка спойте нам чего-нибудь, копеечку дадим!
Больше мы в этих пальтишках без сопровождения взрослых за ворота не выходили. Но прозвище «певчие» надолго осталось за нами.
Не мудрено, что в первую пору нашей слободской жизни мы почти все дни проводили у себя на дворе и на улицу выглядывали редко.
На дворе-то я и познакомился с первым моим приятелем — слепым горбуном Митрошкой. Ни он у меня, ни я у него никогда не бывали, а встречались мы у плетня, который отделял наш двор от соседнего. Плетень был невысокий — не то что деревянный забор со стороны улицы. Во время наших разговоров Митрошка пристраивался по одну сторону плетня, я — по другую. Мне было тогда лет семь-восемь, а ему не меньше восемнадцати, но мы были почти одного роста. Может быть, потому-то я и считал его своим сверстником и вел с ним долгие душевные беседы обо всем на свете — о мальчишках, которые обижали его и меня, о том, что люди должны обращаться друг с другом по-доброму, по-хорошему и что, может быть, когда-нибудь так оно и будет… Говорили о разных странах, о боге, о земле, о звездах, о хвостатой комете, про которую тогда было так много толков.
Читать дальше
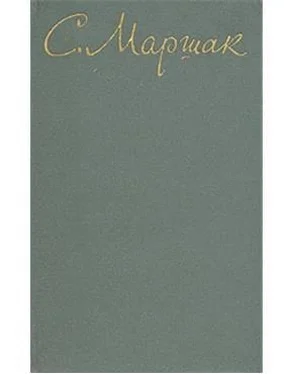

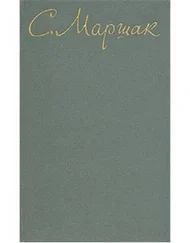
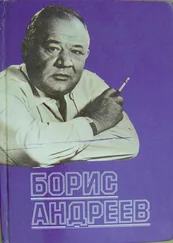

![Юрий Смолич - Рассказ о непокое [Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни минувших лет]](/books/404255/yurij-smolich-rasskaz-o-nepokoe-stranicy-vospominan-thumb.webp)
