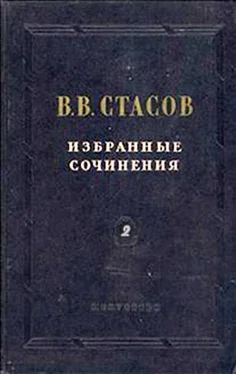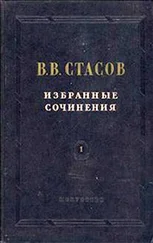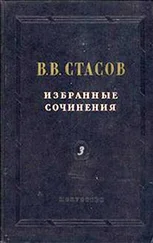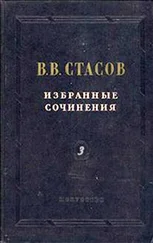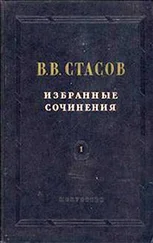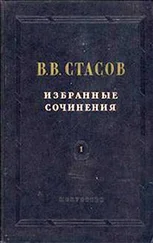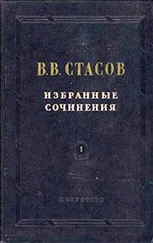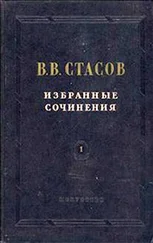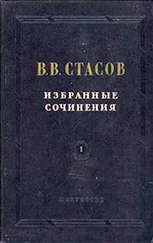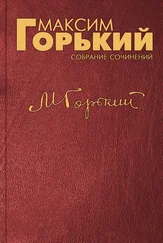Два года спустя, в 1857 году, он уже едет в Германию и Англию, чтоб там повидаться и поговорить с Штраусом, Мацзини и Герценом и «зачерпнуть у них разъяснения своих мыслей, так как в художниках итальянских совсем не слышно стремления к каким-нибудь новым идеям в искусстве». Как результат всего этого, мысль Иванова еще более подвинулась в ширь и в даль новых горизонтов. Он пишет брату в марте 1858 года: «Ты рассуждаешь о моем положении по-твоему. Но мой собственный план совсем другой. Картина не есть последняя станция, за которую надобно драться. Я за нее стоял крепко в свое время, и выдерживал все бури, работал посреди их, и сделал все, что требовала школа. Но школа — только основание нашему делу живописному, язык, которым мы выражаемся. Нужно теперь учинить другую станцию нашего искусства: его могущество приспособить к требованиям времени и настоящего положения России. Вот за эту-то станцию нужно будет постоять, т. е. вычистить ее от воров, разбойников, влезающих через забор, а не дверьми входящих». «Твоя главная ошибка, — прибавляет он далее, в том же письме к брату, — в том, что ты все хочешь приятного в жизни и глубокого покоя, а наше время в нравственном смысле столь бурливо, что невозможно быть без каких-нибудь неприятностей даже одну неделю… Ты дорожишь римскою жизнью; тут проведена юность с приветливым говором молодых девиц, наших знакомых; все это — с прекрасной природой, с приобретением знаний в беспечной жизни, делает что-то такое неразвязное, что, кажется, шагу не хочется выступить из этого мира. Да ведь цель-то жизни искусства теперь другого уже требует! Хорошо, если можно соединить и то, и другое. Да ведь это в сию минуту нельзя! А цель важнее околичностей, цель живописи в настоящую минуту… Если бы, например, мне даже не удалось пробить или намекнуть на высокий и новый путь, стремление к нему все-таки показало бы, что он существует впереди, и это уже много, и даже все, что может дать в настоящую минуту живописец».
Иванов в последнее свое время так высоко вдруг поднялся, так шагнул вперед, что его уже не пугало то, что в прежнее время заставило бы его оробеть и потеряться; новые требования и запросы публики, сильная критика, направленная против иных частей его картины. Он не только теперь не робел и не терялся, но находил голос публики — справедливым и законным. В 1858 году, вовремя выставки его картины в Риме, он совершенно спокойно писал оттуда: «Вследствие выставки я заключил, что моя картина более всего может быть ценима художниками, а не публикой. И в самом деле, я сам в ней желал показать, до какой степени русский понимает итальянскую школу, подчинить ей русскую переимчивость и составить свое, в чем, кажется, и успел, если положиться на голос художников всех наций в Риме. Что касается до публики, то ее требования ушли дальше, ответы на которые разрешатся впоследствии. Требуют портрета местности, спрашивают о кресте в руке Иоанна Крестителя и т. д.; одним словом, не довольствуясь одной школой у новейшего художника, хотят живого воскресения древнего мира. Эти вопросы могут ясно доказать, что искусство живописи должно процвести в самую высокую и последнюю ступень». Точно также, в это же самое время, изменилось у Иванова, самым коренным образом, одно из отношений его к России. В прежние времена, в лета юности и даже зрелости, Иванов, при всей любви своей к России, ничего так не боялся, как возвращения на родину. Ему это постоянно казалось однозначащим со смертью, с окончательной погибелью не только таланта, но всего существования его. «Мысль о возврате на родину вышибает у меня и палитру, и кисти, и всю охоту что-либо сделать порядочное по искусству, — пишет он отцу в 1835 году. — Вот почему прошу и вас, и всех до времени мне об этом не напоминать, а не то грустные мысли опять завладеют мною, и я в Италии проведу остальные дни пенсионерства моего в совершенном бездействии, а что еще хуже — в унынии…» «Третьего дня, — говорит он отцу в марте 1839 года, — мне приснилось, будто бы по необходимости собираюсь в Петербург: лихорадка, плач и как будто отсутствие ума меня совершенно обхватили. Но нет, нет! Это сон, забудемте его!» В 1848 году Иванов начинает уже думать, однако, иначе: Россия уже не пугает его, он не боится более сделаться там ни купцом, ни чиновником под чужими приказаниями и заказами, он пишет племяннице: «Напрасно вы думаете, что я и брат разлюбили наше отечество. Быть русским уже есть счастье, как же вы хотите, чтоб мы не желали его? Возврат наш на родину будет непременно. Но нужно прежде исполнить долг — окончить давно начатые дела с возможною совестью».
Читать дальше