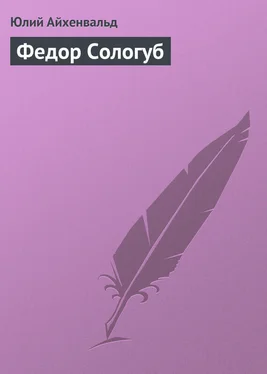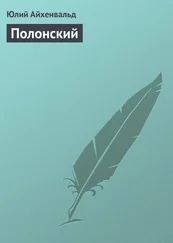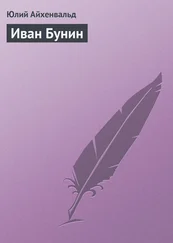Быть может, именно потому, что счастье, земные кусочки солнца, все-таки были ведомы поэту, иногда в его тьме и безжизненности начинает брезжить какой-то свет, и нас утешают мыслью, что мы, существа земли, на время пробудившись для человеческого бодрствования, вернемся в Господень сон. Дверь земного заточения будет открыта, и обещающе, торжественно, религиозно звучат эти дивные стихи:
В твоей таинственной отчизне,
В краю святом,
Где ты покоился до жизни
Господним сном,
Где умирают злые шумы
Земных тревог, —
Исполнив творческие думы,
Почиет Бог.
И ты взойдешь как дым кадильный
В Его покой,
Оставив тлеть в земле могильной
Твой прах земной.
Но освобождающие и светлые идеи Сологуба – только идеи, и его теплое – только воспоминание мертвеца. Его настоящее безжизненно, и, что бы он ни сулил в будущем, какие бы просветы ни виднелись в его гробовой мгле, пред вами все же – только зрелище оригинального человеческого саркофага.
Правда, по своей мертвой дороге, по своей навьей тропе Сологуб не сумел пойти до конца, и он сам не принял своей порочности. Русский Бодлер, он, подобно своему прототипу, тоже не мог осилить того первородного и прирожденного мещанства, которое заставляет нас, хотим мы этого или нет, с миром соглашаться и его принимать. Жизнь – это утверждение, а не отрицание. Сам поэт наш почти не живет, он – какой-то несуществующий, его почти нет в живых; но покуда теплится хотя бы последний бледный огонек его существования, зажженный тем Змием, которого он тщетно хочет ненавидеть, до тех пор и он соглашается, и он волей-неволей принимает. Он не постигает – отчего, но знает наверное, что «в природе мертвенной и скудной воссоздается властью чудной единой, духовной жизни торжество». И как отдаленное дуновение чего-то давнишнего, юного, покинутого, но не покинувшего, как воспоминание, реющее над гробницей, и то живое, что снится мертвому, как тени бытия, всколыхнувшие бесстрастную гладь Нирваны, доносится безгрешное мечтание, невинный поцелуй и все эти «тоненькие руки и ноги милые твои». И дети, «праздничные дети», и сестра, и многообразные цветы, в которых дышит творческая тайна, – все это доигрывает, хотя и на скрипке смерти, свои последние мелодии, и слышится песнь умиления, хвалы и благодарности.
Что было прежде силой косной,
Что жило тускло и темно,
Теперь омыто влагой росной,
Сияньем дня озарено, —
И в каждом цвете обаяньем
Невинных запахов дыша,
Уже трепещет расцветаньем
Новорожденная душа.
Не в том ли счастье и тайна человеческой жизни, что душа всегда остается новорожденной? Она не стареет, и в какие бы «истлевающие личины» мы ни облекали ее, она всегда сохранит под ними свой подлинный младенческий вид, свое неизменно чистое лицо.
Так, не подкуплен ли и не покорен ли сам Сологуб Змием вселенной? И не оттого ли хочется ему, поклоннику Дьявола, и арф Давида, и притчей Соломона, и Матери Пресвятой Богородицы? И не оттого ли с тоской и радостью вспоминает он утро дней благоуханных, когда божественная сила дарила ему окрыленные мечты, вереницы ново-зданных назаретских голубей, подобных тем, которых из влажной глины создавал и оживлял ребенок-Бог в бедной хате, в Назарете? И не оттого ли, в широкой безбрежности своего несуществования, своего духовного отсутствия из мира, в своем вездесущии, которое на самом деле есть именно это отсутствие, во вселенной-чужбине, Сологуб испытал так много тоски по определенному урочищу, по родному месту, по своей родимой России? В царстве ледяного кошмара, на холодных вершинах уныния и сомнения не мог остаться Сологуб.
О Русь! в тоске изнемогая,
Тебе слагаю гимны я.
Милее нет на свете края,
О, родина моя!
. . . .
Не заклинаю духа злого,
И, как молитву наизусть,
Твержу все те ж четыре слова:
«Какой простор! Какая грусть!»
. . . .
Печалью, бессмертной печалью
Родимая дышит страна.
За далью, за синею далью,
Земля весела и красна.
Свобода победы ликует
В чужой лучезарной дали,
Но русское сердце тоскует
Вдали от родимой земли.
В безумных, в напрасных томленьях,
Томясь, как заклятая тень,
Тоскует о скудных селеньях,
О дыме родных деревень.
«Милее нет на свете края…» Значит, есть привязанность какой-то одной точке вселенной; значит, не только мир принимаешь, но и прикрепляешь свое сердце к матери, к родине, к великой и святой первобытности. О ревнивой меже, разлучнице людей, скажешь и о том, как
Читать дальше