Сумрачное вечернее небо беспредельно раскидывалось надо мною; горизонт, со всех сторон открытый, без солнца и без облаков, казалось, тонул краями в волнах; вольно гулял над ним пустынный ветер, вздымая и крутя песок на узкой полосе земли, которая тянулась бесцветной лентою впереди меня и за мною; с одной стороны шумело море, с другой зеленело сонное, огромное озеро, покрытое плесенью и соляною корою, которое в вечной тиши, в вечном однообразии кажется дряхлым изгнанником, равно забытым и жизнью, и смертью. // Кругом все было пусто и дико; нигде ни жилья, ни голоса людского <���…> // И безответны были вокруг меня земля и небо, безответна осталась дума моя! [491]
Разнородный облик принимает, с другой стороны, и метафизическая бесконечность, торжествующая свое превосходство над царством конечного. У Гоголя гарантом подобной победы, которая проецируется в будущее, объявлена даже географическая протяженность родной страны, оптимально отвечающая вместе с тем представлению о снятой, минимализированной, как бы нулевой реальности. Неброская, скудная, равнинная, но зато «бесконечная» Русь в экстатических пассажах его поэмы наделяется сиянием царства небесного и одновременно приметами некоего женского божества, вступающего в эротический союз с визионером-повествователем.
Парадигматическим изображением внутреннего, ментального хаоса для русского романтизма стала знаменитая строфа из «Шильонского узника», в 1822 г. переведенного Жуковским (стоит добавить, что, в согласии с приведенной схемой, эта трагическая картина и в оригинале, и в переводе сменяется затем светом надежды, которую символизирует птичье пение):
Но что потом сбылось со мной,
Не помню… свет казался тьмой,
Тьма светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне;
Все в мутную сливалось тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без Промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть – как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.
Приведенный текст оказал колоссальное влияние на сцены статического хаоса, представленные в русской поэзии – включая, кстати, и «Хеверь» Соколовского (другим его источником был, как сказано, Юнг-Штиллинг), и тимофеевского «Поэта» («Какой-то новый, чудный мир Без света, без границ, без звуков…»), и лебедевскую «Ничтожность» («Без вида, места и движенья…»). С другой стороны, не раз отмечалось огромное воздействие «Узника» на «тюремные» темы русского романтизма – и здесь, пожалуй, особенно примечательна «Карелия» Ф. Глинки. Заточение, как и у Жуковского, соединено в ней с духовным хаосом, сперва мертвенным, затем животворным: «Я заживо в оковах тлел, И скоро мною овладел Какой-то недуг: ноги, руки Хладели, и, полумертвец, Я забывал и жизнь и муки И думал, что всему конец». «Недуг» сменяется зато райскими озарениями, нисходящими к узнику в полудремотном его состоянии («непробужденный и без сна»; ср. «ни сон оно, ни бденье» у Баратынского), показательном для очень многих мистических или псевдомистических сцен, освоенных русской словесностью по западным моделям.
Однако тема хаоса из «Шильонского узника» нашла в России и другие отзвуки, уже не имевшие прямого отношения к Байрону. Наряду с некоторыми малосущественными и неизбежными в стихотворном переводе неточностями, Жуковский снабдил текст дополнением весьма принципиального свойства. Я подразумеваю строку «То были образы без лиц» (другой значимой вольностью было упоминание о Промысле, тоже отсутствующее в оригинале, но ключевое для самого переводчика). Тут, конечно, просквозила дорогая Жуковскому идея о принципиальной невыразимости и непредставимости инобытия, скрывающегося за мистическим «покрывалом», – убеждение, которое он сохранил на всю жизнь. Касаясь его очень поздней статьи «Нечто о привидениях», И. Виницкий подчеркивает, что в ней, как и в стихотворениях рубежа 1810–1820-х гг., «поэт развивает свою давнюю и любимую мысль о непроницаемой завесе, которая иногда высшею волей приоткрывается перед редкими избранниками. Человек не в силах сам приподнять ее, но ему дается таинственный намек на то, что за нею существует» [492].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






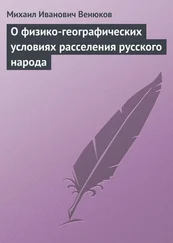
![Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/430618/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd-thumb.webp)


