Быть может, «обманчивая судьба» и впрямь обладает какой-то автономией, предоставленной ей Всевышним? Этот вывод действительно намечается в ряде романтических произведений. К примеру, герой Станкевича убежден, что «с начала мира вечный положил Законы ей, дал власть и очертил границы» [393]. Сходная субординация присутствует и в «Лунатике» А. Вельтмана: «Своенравна судьба, но не произвольно, не безотчетно правит она твердию: есть воля и над ее волею» [394]. Как видим, у обоих писателей «своенравная судьба» наделена пусть ограниченной, но все же собственной властью и волей.
Посредством такого хода обеспечивалось заодно некое алиби для Промысла, позволяющее оградить его от богоборческих покушений. Угадываемый во множестве романтических текстов смутный ропот на Провидение переадресовывался фатуму, который выступал как бы в роли черствого и жестокого министра-самодура, состоящего на службе у милосердного, но взыскательного государя. В. Соколовский в «Прощании» пишет: «Но покоримся Провиденью; Нам не постичь его путей», а затем дает параллелизм, посредством которого Промысл, с одной стороны, сближается с судьбой, а с другой – самой своей непостижимостью противопоставлен этой подвластной ему силе – мелочной и приземленной: «И покорись судьбе: наш век – расчета век» [395]. У Ган в «Теофании Аббаджио» (1841) мнимый «случай» на деле есть лишь орудие целительного Промысла – но наряду с ним тут действует и сама судьба, которой вменяется в вину жестокость и несправедливость, подлежащая исправлению. О самоотверженном герое здесь сказано: «Принимая под свой покров удрученное роком семейство, он верил, что не случай, а воля Провидения избрала его орудием для спасения погибающих, и, поклявшись исправить несправедливость судьбы, посвятил себя исполнению высшего предназначения» [396].
Для романтика всякий жизненный путь мог сделаться тернистым, любой венец – терновым и каждая молитва – Молением о чаше. Но обращают его не к самой судьбе, а к Тому, чью волю она выполняет, ибо вся надежда – лишь на милосердную снисходительность ее повелителя. Ср. в «Моей мольбе» (1836) А. Мейснера (любопытной, кстати сказать, и своим характерно-тавтологическим зачином):
Мне суждено таинственной судьбою
Свинцовый крест по терниям нести;
Но не паду пред мощною с мольбою
Бессильного от бремени спасти:
Молюсь о том, чтоб ношею тяжелой
Обременив страдальческую плоть,
Меня крепил надеждою веселой –
Мне силы дал не пасть под ней Господь [397].
Впрочем, Року иногда приходится и попросту ошибаться, о чем говорит Бенедиктов в концовке своего послания к Е. Шаховой: «Пой! Терпенью срок наступит. Пой, лелей небесный дар! Верь – судьба сама искупит Свой ошибочный удар!» Ср. гораздо более резкую аттестацию в «Карелии» Ф. Глинки, где судьба, которая по приговору Всевышнего карает бездумных грешников, сама страдает тем же неразумием: праведник, одинокий «меж людьми», «глядел, как в душной их юдоли Играл слепой – слепцами – рок, Казнитель, им от Бога данный».
Знаменателен тут своей сумбурностью очередной пример, почерпнутый нами у вездесущего Тимофеева. Подобно многим писателям, он соединил мученический «крест» и «судьбу», но сделал это довольно своеобразно. Герой его песни «Сирота» витийствует: «Дитя без рода, без отчизны, Я взял насильно бытие; Я гордо дерзкою рукою Его похитил у судьбы; Хотел помериться с судьбою И узел жизни развязать». Сироту встречает жестокое возмездие, показ которого, как нетрудно будет увидеть, отдает песней Арфиста (все из того же романа Гете, столь впечатлившего Мейснера). Песнь эта, примыкавшая к числу наиболее популярных в России стихотворений Гете и сегодня знакомая всем по тютчевскому переводу (1831), была, однако, достаточно рискованным сочинением, поскольку в ней осуждению подвергались коварные и мстительные «небесные силы» (himmlischen Mächte), вовлекшие Арфиста в жизнь: «Ihr führt ins Leben uns hinein…» У Тютчева соответствующее место звучит так: «Они нас в бытие манят – Заводят слабость в преступленье, И после муками казнят: Нет на земле проступка без отмщенья!» В своей юношеской драме «Menschen und Leidenschaften» (1830) тему Гете подхватывает Лермонтов, заменивший небесные силы «судьбой»: человек «сотворен слабым; его доводит судьба до крайности… и сама его наказывает».
Тимофеев же в «Сироте» рисует совсем иную и странную картину, сама сбивчивость которой очень характерна для «низового романтизма», – картину сперва мятежную, затем плаксивую. Герой, в отличие от своего тютчевского предшественника вовсе не втянутый в «бытие», а сам дерзновенно его похитивший, получает тем самым статус богоборца – только какого-то несуразного и незадачливого. В заключительной своей части песня любопытна тем, что Сирота словно пытается хоть как-то разобраться в индивидуальной природе покаравших его властей:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






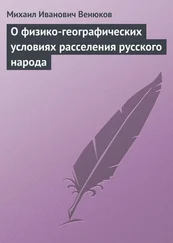
![Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/430618/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd-thumb.webp)


