Безысходный дуалистический пессимизм не был показателен для профессиональных популяризаторов шеллингианства: М. Павлова, И. Давыдова, А. Галича – не говоря уже о таком патриархе натурфилософии, как Д. Велланский; для философствующих критиков: Н. Надеждина и Белинского (причем на всех стадиях его эволюции); для людей из кружка Н. Станкевича и прочих русских гегельянцев, включая сюда того же Белинского конца 1830-х гг. В свою очередь, философия, поставляемая духовной школой, предпочтение отдавала не жестким симметрическим антитезам, а Плотину и пантеистическому немецкому идеализму, который она по мере сил осуждала либо подправляла, пытаясь ввести в русло психологизированного теизма [79]. В духовной академии философскую подготовку получил, как известно, и Надеждин, ученик Ф. Голубинского [80].
В тех же 1830-х гг., означенные повсеместной победой, а вместе с ней и эрозией романтизма, эскапистский пафос не вызывал сочувствия также у людей, одинаково далеких и от философии, и от религии, например, у журналистов и прозаиков вроде Булгарина – запоздалого эпигона польского Просвещения. Тоскливая безнадежность, компенсируемая верой в потустороннее воздаяние, в целом не была свойственна и характернейшим представителям русского бидермайера – А. Погорельскому и А. Вельтману. Первый, одомашнивая импортных бесов, в своей заемной гофманиане предпочитал педалировать автопародийную ноту, которая служила у него приятным и скромным суррогатом немецкой романтической иронии; второй был вообще слишком жизнерадостным человеком для того, чтобы всерьез и надолго очаровываться кладбищенской лирикой. Она вовсе не доминирует и у различных, в том числе сатирически настроенных, бытописателей (о двух из них, Д. Бегичеве и А. Степанове, см. ниже) или у многочисленных подражателей Вальтера Скотта, включая в обе эти категории Загоскина – хотя и тот удручил своих читателей мелодраматической «Аскольдовой могилой».
Число подобных примеров легко было бы расширить, а состав их – усложнить за счет нюансов, иногда очень существенных. Но они не меняют главного в метафизической ориентации основного потока русской литературы 1820–1830-х гг., т. е. ее поэзии и сюжетной беллетристики, – ориентации не рассудочной, а, так сказать, религиозно-эмоциональной. В целом эта словесность крайне слабо адаптировала позитивно-жизнестроительную традицию западного «высокого романтизма». Из предромантического наследия в России куда более важную, а порой парадигматическую роль сыграли уже упоминавщиеся здесь «ночные» и оссиановские темы, увязанные с готической традицией (пусть даже часто пародировавшейся) [81], а также достаточно безрадостные книги наподобие «Вертера», романов Жанлис или «Валери» баронессы Ю. Крюденер. Хронологически же само отечественное романтическое движение совпало именно с поздней, дуалистической фазой романтизма немецкого, причем давление Гофмана и тогдашнего Тика соединялось с сумрачным английским байронизмом и дополнялось уроками «неистовой» французской словесности, также не способствовавшей оптимистическому мировосприятию.
Что касается романтизма немецкого, наложившего столь внушительный отпечаток на русскую культуру, то различие между двумя его стадиями почти сто лет назад в самых общих чертах сформулировал В. М. Жирмунский во введении к одной из своих первых книг:
Йенские романтики – мистики. Но мистическое чувство присутствия бесконечного в конечном связано у них с любовью ко всему конечному, земному. В непосредственном чувстве раннего романтизма земное и божественное слиты, все земное – только чувственное выражение божественного <���…> В противоположность этому, для поздних романтиков конечный и бесконечный мир опять разделены; земная жизнь и жизнь божественная протекают своими разными путями; мир бесконечный – только мечта, во всем непохожая на жизнь, противоположная ей; мир земной – только холодная и пустая материальная действительность, лишенная живого бесконечного содержания [82].
Огрубляя ситуацию, можно сказать, что русские писатели отчасти как бы синхронизировали оба подхода, хотя предпочтение отдавали второму. Если некоторой, пускай очень условной аналогией йенской школы может служить московское любомудрие и смежные с ним явления, то за их пределами более показательным для России выглядит как раз тот трагический конфликт идеала и реальности, о котором повествует Жирмунский.
Вообще говоря, в литературе Золотого века постоянно взаимодействовали две контрастные идеологические тенденции, во многом подсказанные столь же двойственным масонско-пиетистским прецедентом. Еще в очень авторитетном трактате «Таинство креста», впервые переведенном с французского в 1784 и переизданном в 1814 г., дьяволу приписана была вся полнота земного могущества: «Дух мира сего, коего Князь есть сатана, имеет также на нас большие права по той причине, что мы в его области находимся, в недре его носимся, и от него беспрестанно получаем жизнь, пищу, одеяние, силы, красоту, украшения и славу» [83].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






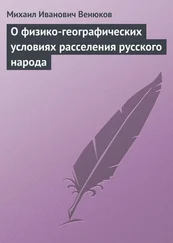
![Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/430618/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd-thumb.webp)


