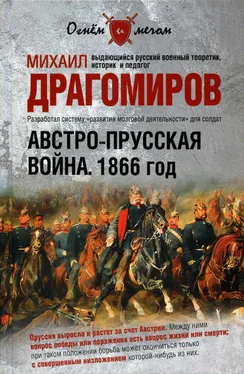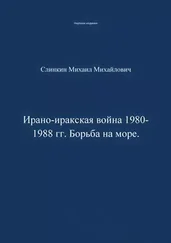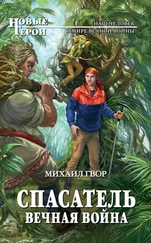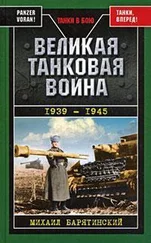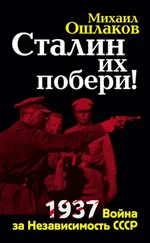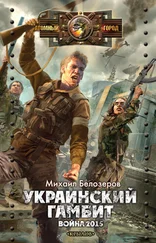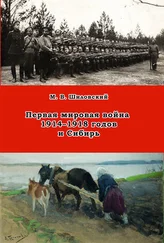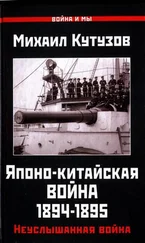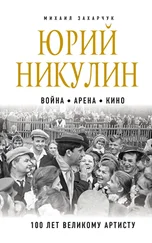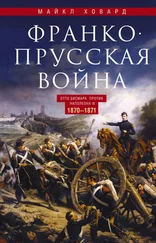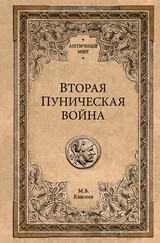так как Австрия в течение трех месяцев вооружается и возбуждает к тому же и остальных членов Союза,
так как вследствие всего этого о значении § 2 союзного акта, поставляющего целью внутреннюю и внешнюю безопасность Союза, не может быть и речи,
так как в основании всех действий Австрии лежат тайные соглашения с прочими членами Союза,
то Пруссии остается признать уничтожение Союза за совершившийся факт».
Такого оборота дела австрийские дипломаты, по всей вероятности, не ожидали: восстановление Союза против Пруссии разрешилось уничтожением Союза. Но это значило как бы идти против общего отечества. Бисмарк слишком был опытен в дипломатической борьбе, чтобы дать противникам этот шанс. Объявление свое об уничтожении Союза Савиньи закончил следующим образом:
«Тем не менее, Пруссия не только далека от мысли считать разрушенными национальные основы, на которых зиждется Союз, а, напротив, намерения ее заключаются именно в том, чтобы придерживаться их и единства немецкой нации, стоящего выше всех преходящих форм, и объявляет, что она готова, на основании проекта реформы от 10 июня, заключить новый союз с теми из немецких правительств, которые будут к тому расположены».
В заключение прусский посланник, заявив о неприкосновенности прав Пруссии на собственность ее в Союзе и на распоряжения союзными суммами без согласия Пруссии, оставил собрание.
Дипломатическая кампания этим закончилась: от слов пришло время перейти к делу. Должно отдать справедливость Бисмарку: ходы были рассчитаны так искусно, что ни одна дипломатическая уловка Австрии и ее приверженцев не застала его врасплох. Пользуясь слабыми сторонами Союза, он вел его от одного нерасчетливого шага к другому, показал все его бессилие, которое вполне оправдывало последний удар его существованию.
Перед войной прусское королевство имело 5094 кв. миль и 18 500 000 населения. Ежегодные доходы его простирались до 144 000 000 талеров; расходы обыкновенно не превышали доходов. Государственный долг, по сведениям 1864 г., не превышал 280 000 000 талеров; запасный капитал простирался до 80 000 000. На содержание армии шло 39 300 000 талеров; на флот — 2 300 000 талеров.
Нынешняя прусская военная организация, получившая радикальное улучшение в 1860 г., зиждется на принципах, возникших еще после погрома 1806 г. Обязательство содержать не более 40 000 войск, импозированное Пруссии Наполеоном по тильзитскому миру, поставило тогдашних ее государственных людей в необходимость сообразить систему комплектования так, чтобы, при столь малой постоянной армии, иметь в массе населения возможно больший запас людей, подготовленных к военной службе. Задачу эту можно было разрешить только при том условии, чтобы, сделав сроки службы возможно менее продолжительными, проводить через постоянную армию всю молодежь населения. При такой системе организаций, постоянные войска являются более кадром учителей для образования армии, нежели действующей вооруженной силой.
Подобная организация представляла и другую слабую сторону: постоянная армия обращалась, по самому роду своих обязанностей, в сословие школьных педантов, в котором мало могло быть военного духа. Это явление было неизбежно с водворением продолжительного мира, вследствие которого люди, видавшие войну и обучавшие молодежь военному делу под влиянием боевых впечатлений, заменились мало-помалу мирными личностями, которые, естественно, стали налегать в обучении не на то, как бить врага, а на выправку, ловкое исполнение приемов и стройность движения. Положим, что это вещи также необходимые, но они не только не исключительные, но даже и не главные в военном ремесле.
Последствия всего этого понятны: молодой человек, едва поступив на службу, более расположен был мечтать о том, скоро ли он из нее выйдет, нежели о том, чтобы изучить ее основательно; члены кадра должны были дойти до взгляда на мелочи военного быта и службы как на важнейший отдел этой службы; наконец, люди, отслужившие свой термин в действующей армии, расположены были думать, что они уже исполнили свой долг, и относиться, конечно, с неудовольствием к тем случаям, вследствие которых им снова приходилось возвращаться на службу.
Прусские государственные деятели, и во главе их сам король, ясно сознавали эти недостатки организации армии, вполне обнаруженные мобилизацией 1851, 1854 и 1859 гг. Опыт показал при этом, что ландверы были очень тяжелы на подъем: неохотно расставались они с домашним очагом. Король, проникнутый идеею высокого назначения, которое по праву принадлежало Пруссии в германском мире, не мог не быть озабочен тем, чтобы привести ее вооруженные силы в положение, соответствующее этому назначению, и достиг своей цели в 1860 г., несмотря на оппозицию буржуазно-либеральной палаты депутатов.
Читать дальше