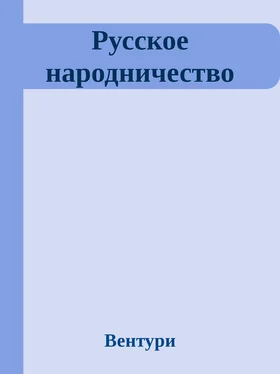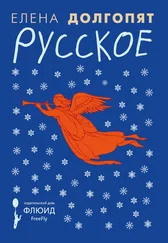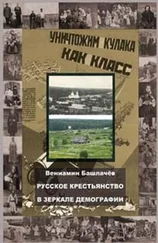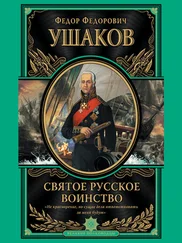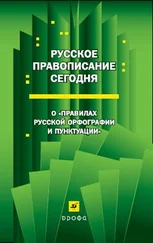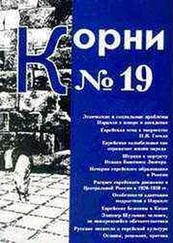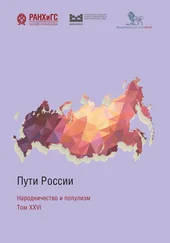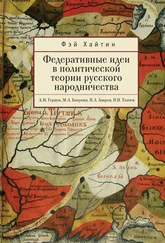Русское народничество
Здесь есть возможность читать онлайн «Русское народничество» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: история, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Русское народничество
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Русское народничество: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Русское народничество»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Русское народничество — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Русское народничество», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Это западничество было в прямом конфликте со славянофильскими тенденциями, которые (главным образом в Москве) развились в политическое движение. «Абсолютистский период» Белинского сам по себе был крайней реакцией на славянофилов; защита функции российского государства против сторонников чистого националистического духа церкви и деревни. Также как Белинский нелепо пытался видеть в правлении Николая I просвещенный деспотизм, так и славянофилы приняли в равной степени романтический взгляд на русский народ. Славянофилы обратились к далекому прошлому — к Фридриху II и Гердеру, к немецкой культуре 18 века и началу 19-го. Они были под глубоким влиянием немецкой интеллектуальной атмосферы и фактически были его поздним продуктом.
Но их обсуждения не могли оставаться привязаны к традициям Петра Великого и романтической идеализации российского прошлого. Это было бы слишком стерильно и непрактично; с одной стороны официальное оправдание абсолютизма, с другой — сентиментальная реакция на него. Это могло быть лишь академическим обсуждением философии русской истории и духа, и институтах, в которых это выражалось. Нужна была исключительна живая культура 40х, для того чтобы расширить это обсуждение. Это расширение заставило, по крайней-мере некоторых западников, скорее задуматься о развитии, чем об отрицании абсолютизма; в то время как славянофилы пытались лучше понять народ и прошлое, о котором они говорили.
Сам Герцен, человек блестящего интеллекта, играл немалую роль в этих изменениях. Он один появится с полной и эффективной политической программой.
В 1842 году он смог вернуться в Москву, которая стала центром его деятельности. Наконец-то он освободился из провинциальной ссылки; освободился и от чиновничьей карьеры, которой он занимался в ссылке, и в которой он почти преуспел. Он вступил во вторую молодость, более зрелую, но с таким же энтузиазмом и с таким же интересом к европейской культуре как и вначале. Он быстро избавился от смирения, скуки и религии, которые он приобрел во времена одиночества. В своем дневнике он оставил прекрасную запись освобождения от романтических мечтаний - возрождение более конкретных и политических и философских интересов. Запись духовного процесса, который он разделял со всей современной ему Европой — Европой , которая двигалась к революции 1848 года.
На первый взгляд идеи славянофилов кажется воплощают те самые идеи и эмоции, которые Герцен как-будто отрицает. « С славянофилами столько же мало можно говорить, и они так же нелепы и вредны, как пиетисты .» (из дневника Герцена 29 Июля 1842 http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml ). Два года спустя в 1844 году он провел историческую аналогию со славянофильскими идеями.
« Славянофильство имеет подобное себе явление в новой истории западной литературы. Появление национально-романтической тенденции в Германии после наполеоновских войн -- тенденция, которая находила слишком всеобщею и космополитическою науку и мысль, шедшие от Лейбница, Лессинга до Гердера, Гёте, Шиллера. Как ни естественно было появление неоромантизма, но оно было не более как литературное и книжное явление без симпатии масс, без истинной действительности; не трудно было угадать, что через десять лет об них забудут. Точно такое же положение занимают славянофилы. Они никаких корней не имеют в народе, они западной наукой дошли до своих национальных теорий, это болезнь литературная и больше никакого значения не имеющая. » ( из дневника Герцена 10 декабря 1844 года http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml )
Это заставило Герцена изучить немецкие истоки славянофильской культуры, и самому разобраться в идеалистической философии. Он следил за действиями левого крыла гегельянства в Берлине, и за новыми статьями в журнале Руге «Deutsche Jahrbucher». Он читал Фейербаха, но ему больше всего помогали личные размышления о Гегеле. « Нет ничего смешнее,», - пишет он , - «что до сих пор немцы, а за ними и всякая всячина, считают Гегеля сухим логиком, костяным диалектиком вроде Вольфа, в то время как каждое из его сочинений проникнуто мощной поэзией, в то время как он, увлекаемый (часто против воли) своим гением, облекает спекулятивнейшие мысли в образы поразительности, меткости удивительной. И что за сила раскрытия всякой оболочки мыслью, что за молниеносный взгляд, который всюду проникает и все видит, куда ни обернул бы взор! » (Дневник Герцена 15 сентября 1844 года http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0400.shtml ) Именно там он искал суть гегелевской мысли. Он пришел к выводу, что «философия истории» самая слабая часть системы, искусственная конструкция, которая скорее скрывает, чем раскрывает историю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Русское народничество»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Русское народничество» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Русское народничество» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.