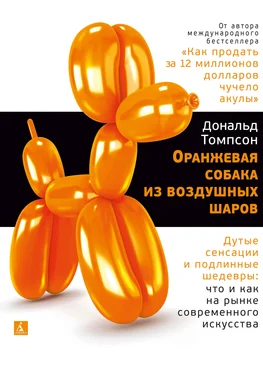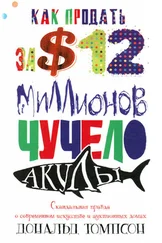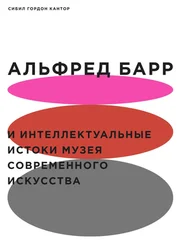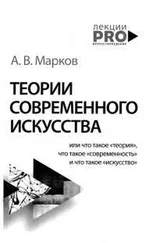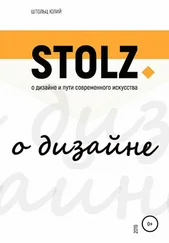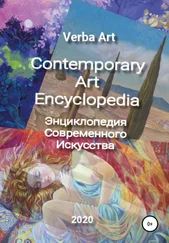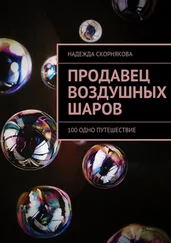Владеть и демонстрировать современное искусство стало модно в западных странах в конце 1970-х и начале 2000-х годов, а в России, Китае и на Ближнем Востоке – ближе к концу данного периода. Ни в одной стране никто не говорил: «Эта штука нужна вам, чтобы показать свой культурный уровень и богатство». Таинственным образом везде у состоятельных людей вдруг появлялось желание приобретать именно такие вещи.
Что же могло заставить современное искусство частично потерять свой статус? Не художественную притягательность, но социальную значимость и умозрительную привлекательность. Одним из факторов могут быть все более активные попытки модных домов заниматься перекрестным продвижением, привлекая художников. Вторая возможная причина – попытки современных художников диверсифицировать свою деятельность, продвигая модную продукцию, основанную на их произведениях. Легитимность сегодняшнего арт-рынка зависит от того, насколько рынок продолжает верить, что существующие каналы распространения и уровень цен поддерживают социальную и культурную значимость коллекционирования.
Сфера сотрудничества моды и искусства куда шире приведенных здесь примеров. Художники и искусство становятся частью рекламы модных изделий, направленной не только на состоятельных клиентов – традиционную целевую аудиторию и для моды, и для искусства, но и на покупателей в возрасте до тридцати лет – тех, кто составляет базовый рынок для моды. Среди модных домов, вовлеченных в этот процесс, можно назвать «Луи Вюиттон», «Шанель», «Хьюго Босс», «Сальваторе Феррагамо» и «Берберри». Все эти фирмы пытаются включить желанную атрибутику современного искусства в собственные продукты. Связь с искусством позволяет индустрии моды и товаров роскоши расширять имидж бренда и продавать товары по более высокой цене. Такие товары называют «товарами Веблена», спрос на них повышается с повышением цены, поскольку в этой ситуации они начинают транслировать более высокий статус. Концепцию сформулировал в 1899 году экономист Торстейн Веблен. Он дал известное определение роскоши как формы бесполезного, призванного сообщать статус бесполезному, по сути, классу людей.
В музеях изящных искусств стали проводиться бесконечные выставки моды – отчасти потому, что собирать, страховать и экспонировать одежду и аксессуары куда проще, чем перевозить и выставлять живопись, отчасти потому, что модные дома готовы «щедро поддержать» демонстрацию своей продукции, а также потому, что молодым меценатам мероприятия «ивенты» нравятся больше, чем выставки (об этом мы еще поговорим далее).
В Музее Уитни, например, сразу после ретроспективы Фрэнка Стелла прошел показ блейзеров, платьев и трикотажа бренда Proenza Schouler, вдохновением для новой коллекции которого как раз и послужили работы художника. В марте 2016 года Музей де Янга в Сан-Франциско представил выставку, посвященную творческому пути Оскара де ла Ренты, «организованную… с участием компании с ограниченной ответственностью Oscar de la Renta » [83]. Примерно тогда же музей дизайна Купер-Хьюитт в Нью-Йорке провел выставку обуви Тома Брауна, где демонстрировались пятьдесят пар брогов от Тома Брауна с никелевым покрытием. Посетители могли хорошо рассмотреть характерные красные, белые и голубые ярлычки бренда на каждой модели. Джейсон Фараго писал о выставке в газете New York Times : «Эта легкая, как перышко, экспозиция не является ни выставкой прикладного искусства, ни выставкой моды. Все это больше похоже на рекламную кампанию» [84].
Риски для современного искусства (и художников) состоят из нескольких компонентов. Коммерциализация ускоряет исчезновение традиционного стандарта – когда мы судим искусство по качеству исполнения и степени новаторства. На смену этим критериям приходят нормы культуры потребления – мы начинаем оценивать искусство, исходя из его маркетинговых и финансовых характеристик. Современное искусство начинают воспринимать в том же контексте, что и модные ботинки или часы. Теперь художников выбирают и продвигают уже не дилеры, а модные дома, и критерием часто становится эпатажность искусства.
Мода также стремится инкорпорировать мотивацию, привычно приписываемую покупателям современного искусства. В западных обществах прилично развиваться от «обладания» к «существованию», от «владения» к «получению опыта». Кроме того, мода жаждет вдохновлять и потому сочиняет для продукта предысторию – в идеале такую, которую можно перенести из искусства в мир моды. Сумки «Луи Вюиттон» не имеют никакой идейной подоплеки, кроме престижа бренда. Сумки «Луи Вюиттон» с персонажами и образами Такаси Мураками могут унаследовать идейную подоплеку работ художника. Но не обесценивает ли связь с сумками ту же самую идейную подоплеку, когда последняя затем предлагается в комплекте с картинами и скульптурами Мураками?
Читать дальше