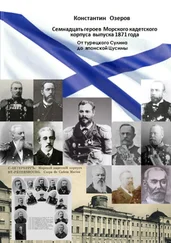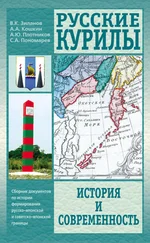А Мещеряков - Герои, творцы и хранители японской старины
Здесь есть возможность читать онлайн «А Мещеряков - Герои, творцы и хранители японской старины» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Искусство и Дизайн, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Герои, творцы и хранители японской старины
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Герои, творцы и хранители японской старины: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Герои, творцы и хранители японской старины»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Герои, творцы и хранители японской старины — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Герои, творцы и хранители японской старины», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Следует отметить, впрочем, что и само эпическое повествование о Ямато Такэру разработано не слишком детально (по сравнению с героическим эпосом других народов). Это можно было бы объяснить неразвитостью летописной традиции в момент фиксации сюжета о Ямато Такэру. Но дело в том, что и впоследствии образ Ямато Такэру не получил дальнейшей разработки.
Существует эпос завоевательный и эпос оборонительный. Сказание о Ямато Такэру принадлежит к первому типу. Островное положение Японии долгое время избавляло ее от вторжения иноземных захватчиков. А как показывает развитие мировой литературы, включая русскую, именно эпос оборонительный, изображающий трагедию поражения, обладает наибольшими продуцирующими возможностями. (Эта мысль была высказана М. М. Бахтиным в частной беседе с В. М. Моксяковым, который любезно сообщил ее автору книги.) Так получилось, что японская литература надолго лишилась эпоса - едва появившись, он канул в Лету, чтобы возродиться уже в условиях развитого феодального общества, когда непрекращающиеся междоусобные войны разделили страну на ряд соперничающих княжеств.
ЦАРЕВИЧ Сётоку:
ПРЕДАННЫЙ БУДДЕ АДМИНИСТРАТОР
Жаль мне путника,
Что голодным лежит
В солнечной земле Катаока...
Жаль голодного, сирого.
Путника жаль..
Образ царевича, более всего известного нам по его посмертному имени Сётоку ("святая добродетель"), оброс легендами довольно быстро, и уже в начале VIII в. в трактовке летописно-мифологического свода "Нихон сёки" Сётоку предстает частью в жизненном, а частью уже в житийном виде. В последующее время он становится любимым героем фольклорных произведений. Народные легенды могут послужить прекрасным материалом для выяснения закономерностей коллективного творчества. Однако наша задача сводится не столько к определению природы народной фантазии, сколько к попытке выяснения истинных событий жизни Сётоку и их места в истории.
Популярность Сётоку оказалась чрезвычайно велика не только среди творцов народных легенд, но и между людей ученых. Средневековые мыслители единогласно провозгласили его столпом буддизма в Японии и даже объявили Сётоку "всемилостивейшим бодхисаттвой". Однако школа "национального учения" (кокугаку), сформировавшаяся в XVII-XVIII вв., с присущей ей нетерпимостью ко всему иноземному преподносила биографию Сётоку как "антижитие" именно за его приверженность буддизму. После буржуазной революции Мэйдзи (1867 г.) стала превозноситься его роль в строительстве государства, а деятельность Сётоку по распространению буддизма нашла оценку с общекультурных позиций. И хотя после окончания второй мировой войны в гуманитарных концепциях японских ученых произошли значительные изменения, историки по-прежнему продолжают изучать жизнь Сётоку. Таким образом, внимание, уделяемое учеными личности Сётоку, оказывается ничуть не меньше, чем интерес людей не столь образованных, который питал легенды о царевиче в течение тринадцати веков. До сих пор каждый японец знаком с внешностью царевича, поскольку до 1984 г. его портрет был отпечатан на банкноте достоинством в 10 тыс. иен.
И фольклор и наука являются видами отражения мировосприятия. И историки наследуют в данном случае объект изображения народного творчества, хотя фольклорная фантазия в значительной степени сменилась трезвым научным анализом. Земная жизнь Сётоку давным-давно окончилась, но со смертью носителя этого имени она стала принадлежать потомкам.
Сётоку, как уже говорилось,- посмертное имя царевича. Согласно существовавшей в древности и средневековье традиции, человек носил также несколько прижизненных имен и прозвищ, которые были связаны с превратностями судьбы и свойствами характера человека. Истории известны три прозвища Сётоку.
Первое из них связано с обстоятельствами рождения царевича. Легенда передает, что супруга царя Ёмэя (585-587), не оставившего особого следа в истории, в 574 г. разрешилась от бремени неподалеку от стойла, и сына поэтому нарекли Умаядо ("конюшня"). Факт совпадения места рождения Сётоку и Иисуса Христа настолько поразил некоторых современных японских исследователей, что они поспешили объявить о распространении христианских идей в Японии VI-VII вв.- благо проникновение несториан в Китай документально зафиксировано в 635 г.
Подобные утверждения, разумеется, далеки от истины, и речь может идти лишь о совпадении - проповедники христианства в лице иезуитов проникли в Японию только в середине XVI в. Гораздо вероятнее связь имени Умаядо с традициями могущественного рода Сога, поставлявшего для государей невест, которые вместе с прижитыми от них детьми служили проводниками влияния Сога. Бабка Сётоку происходила именно из этого рода, а в имени современника царевича - Умако, главы рода Сога, встречается иероглиф "конь" ("ума"). Так что знак "конь" можно истолковать и как принадлежность к клану Сога. Это и неудивительно: воинский культ, включающий в себя культ коня, имел в Японии того времени широкое распространение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Герои, творцы и хранители японской старины»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Герои, творцы и хранители японской старины» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Герои, творцы и хранители японской старины» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

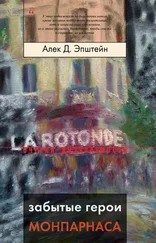

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/411280/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons-thumb.webp)