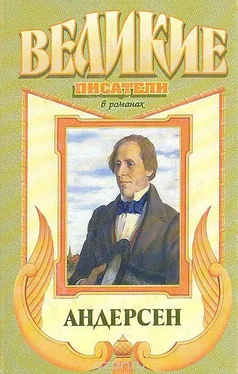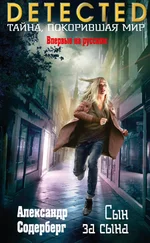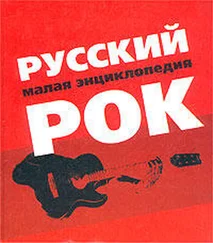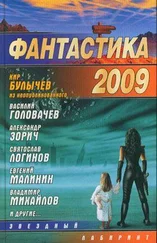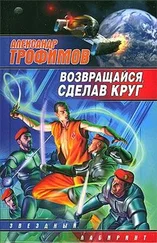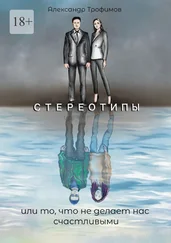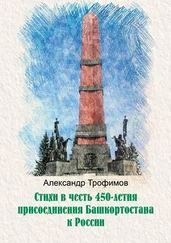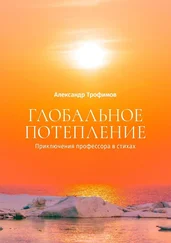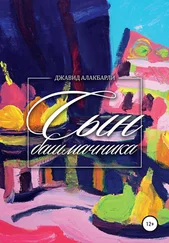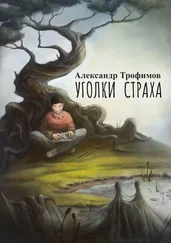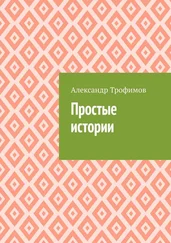Духовным украшением Слагельсе был пастор Бастгольм. Он редактировал «Восточно-зеландские ведомости». Работа отнимала много сил учёного, поэтому он жил в раковине одиночества, предпочитая общение с книгами общению с людьми.
Андерсен не был бы Андерсеном, если бы не пошёл к нему в гости. Пастор принял его с недоумением. Он много видел литературных попыток различных людей различных сословий и пришёл к выводу, что талант всегда найдёт свою дорогу, но лучше искать эту дорогу с сытым желудком. Редакторское существование научило его быть предельно вежливым — ведь неизвестно, что случится с адресатом вашего мнения о литературных попытках. Поэтому письмо «преданного Бастгольма», отправленного из Слагельсе в Слагельсе первого февраля 1823 года, было предельно вежливым, и эта вежливость была принята Андерсеном за литературную победу.
Наивность — самое сильное оружие, оно до сих пор недостаточно исследовано, быть может, потому, что оно принадлежит единицам и не может быть подвержено в силу этого искренним научным показаниям. Да и применима ли научная бухгалтерия к наивности... Тут и Эрстед окажется бессилен... Но в письме Бастгольма, который предпочёл письменное общение личному, что говорит само за себя, были слова, которые молодым литераторам следовало бы заучить наизусть: «Не пишите, если вам придётся подыскивать мысли и слова, пишите только тогда, когда душа оживлена идеей, а сердце согрето чувствами. Внимательно изучайте природу, жизнь человеческую и самого себя, и у вас всегда будет собственный материал для описаний. Берите предметами наблюдения окружающие вас мелкие явления и рассмотрите их со всех сторон, прежде чем взяться за перо. Сделайтесь таким поэтом, как будто до вас не было ни одного поэта, как будто вам не у кого было учиться, и берегите в себе благородство и высоту помыслов и чистоту душевную. Без этого поэту не стяжать себе венца бессмертия!»
Ну, кто бы не хотел положить в свою коллекцию письмо, полное страдающих советов, не выстраданных, а именно страдающих... сострадающих. Совет есть сомудрие, содушие, соумение, сосердие.
Андерсен часто доставал и перечитывал это письмо. Он даже снял с него копию, чтобы первый вариант не разорвался на уголках, — так часто Ганс Христиан Андерсен перечитывал и передумывал его. Он особенно любил передумывать его на могиле поэта Франкенау, фантазируя, что именно он написал такие проникновенные строки начинающему Андерсену...
Вообще за всю свою жизнь Андерсен получил многие тысячи писем, среди них есть истинные перлы, они составляют огромный духовный подарок века девятнадцатого нашему антинаивному веку. Истины, заключённые в этих письмах, столь прекрасны, что я пугаюсь: а сможет ли всеобщее эпистолярное наследие нашего века противопоставить что-либо достойное переписки одного человека...
Мне тоже хочется написать вам письмо, Ганс Христиан Андерсен. Сколько добрых людей вы встретили. Вы удивлялись их доброте, не понимая, что и их доброта удивляется вам. Вот, например, полковник Гульдберг из Оденсе. Он решил проблему первых каникул своего земляка — не только позвал к себе, в Феонию, но и денег на дорогу прислал. И доброта хороша, и добрые письма прекрасны! Но ещё прекраснее деньги, присланные на дорогу.
1823 год. Андерсену уже полных восемнадцать. Сумасшедший дед отправился держать ответ за свою жизнь. И бабушки уже не стало на свете, она отошла в иной мир с мыслями о дорогом внуке... И жив ли ещё куст на могиле отца? Так хочется припасть слезами к родной землице. Наследство деда оказалось таким маленьким — всего чуть больше двадцати риксдалеров. После смерти деда нашли ассигнации, десять лет назад ставшие недействительными.
Если бы Бельт можно было пройти пешком, Андерсен сделал бы это. Но к тому времени он не научился ходить по воде, поэтому пришлось преодолевать морское пространство так же, как и все... Зато уж от Нюборга — ать-два, ать-два, отправляйся пешком, солдат жизни, творитель бытия.
— Боже, спасибо тебе за возможность побывать дома! — воскликнул гимназист. Он увидел колокольню кладбищенской церкви. Неужели он всё-таки увидит мать? Ну, неужели...
Тут мы позволим себе сделать лирическое отступление... Мы вспомним «Дюймовочку», одну из лучших сказок Андерсена, если сказать точнее: одно из лучших творений Поэта.
Бедная женщина хотела ребёнка, отдала последние деньги за его появление на свет — и что же? Как Дюймовочка отблагодарила женщину, создавшую все условия для её маленькой жизни и любившую её всей душой? А никак. Она даже не вспомнила ни разу о ней. На протяжении всего мини-романа, как мне представляется, Дюймовочка, героиня, ни разу не удосужилась вспомнить о родной — впрочем, зачеркнём слово «родной», — просто о матери... Эта странная мысль приходила ко мне давно, и смысл её открылся мне во встрече Андерсена с матерью. Да, он хотел её увидеть, но он — Дюймовочка в мужском обличье. Мы сочувствуем Андерсену, сочувствуя девочке, претерпевшей столько мучений, но её судьба ложится, накладывается и на судьбу Андерсена: оба они мучились — но и не вспоминали о доме. События захватывали их столь мощно, что не было времени подумать о доме. И когда мы мыслим о Гансе Христиане Андерсене, мы должны всегда помнить отношение Андерсена к Дюймовочке. То, что он рассказал о женщине, ухаживавшей за своей «искусственной» дочкой и о которой та потом и не вспомнила, вызывает смутные предчувствия, какие и не решаешься передать, доверить бумаге. Иногда возникает страшное чувствочко, не поднимающееся до чувства, что Мария Андерсен на каком-то этапе пути будущего сказочника стала «женщиной, которая очень хотела ребёнка...».
Читать дальше