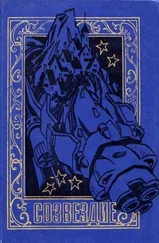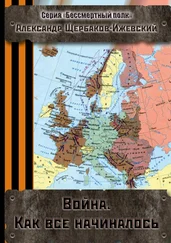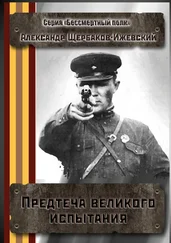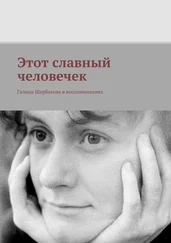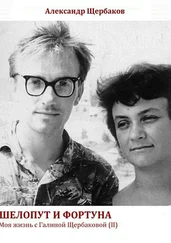Это было, уж поверьте, непросто. Умные статьи и эссе Яковлева, я верю, сделали благие перемены в сознании многих читателей. А мне запомнилось, как он в присутствии журналистов, своих подчиненных, однажды выразился: «Еще не прошло и шестидесяти лет советской власти, а смотрите, как система загнивает!» В этом было и свойственное Яковлеву доверие к коллегам: не донесут, не «настучат».
Конечно, мы были молоды и в силу этого – оптимистичны. Но, объективно говоря, времечко было жутковатое.
Галина Щербакова, как и я, член «ума, чести и совести», должна была состоять где-то на партийном учете. Это называлось быть «прикрепленным». Она была «прикреплена» к редакции журнала «Смена» и платила там членские взносы. И вот однажды секретарь партячейки в душевном разговоре сказал ей:
– Да, все у нас тип-топ, только вот за тебя я боюсь.
– ?
– К тебе из милиции еще не приходили?
– По какому случаю?
– Ну, ты же нигде не работаешь. Получается, тунеядец…
Ясное дело, от таких «товарищей по партии» надо было бечь.
И я позвонил… Борису Яковлеву. Он к тому времени стал заместителем главного редактора журнала «Литературное обозрение».
– Пусть Галя сегодня же придет ко мне, – мгновенно отреагировал он.
Назавтра Галина была сотрудником этого уважаемого органа на гонораре. И много лет она, никому не известный писатель, была под благожелательным покровительством интеллигентского сообщества под названием «Литобозрение». Не сомневаюсь, и это зачтется в списке деяний раба божьего Бориса, если таковой понадобится представить на Суд Господень.
Уже много позднее судьба снова свела нас, на сей раз на дачном участке в подмосковной Мамонтовке. Помню, когда мы вместе участвовали в процессе вечернего купания новорожденной дочурки Яковлевых, Борис Григорьевич выказал в разговоре знание последних Галиных прозаических публикаций. Говорил, что видит, как в ее тексте быт перестает быть фоном и вырастает в бытие.
Мысль, вполне достойная размышления. Но Галя, приучившаяся иронически встречать любые оценки профессиональных критиков (а Яковлев был одним из мэтров в этом цехе), отшутилась какой-то хохмой, которые у нее всегда были под языком («своенравная»!). Тем дело и закончилось.
Чтобы закольцевать это небольшое воспоминание, закончу его еще одной цитатой из книги Яковлева: «Нинель Егорова долгие годы, до ухода из жизни, работала собкором «Советской культуры», Саша Яковенко больше десяти лет был ответственным секретарем «Советской России», Виктор Степаненко – заведующим отделом «Известий», Галина Щербакова с поста редактора волгоградской «молодежки» ушла на творческую работу – стала известнейшей писательницей, Саша Щербаков, в 80-е годы ответственный секретарь журнала «Огонек», – стал известным российским публицистом. Боря Агуренко до самой кончины был главным редактором «Вечернего Ростова»…Тот коллектив, в который я пришел, сумел оказаться таким плодовитым. Дай бог здоровья тем из нас, кто живет и продолжает трудиться».
Итак, весна 1970 года. Как в киношном дне сурка, подобно тому, как было восемь лет назад, этот человек снова звонит мне и снова зовет к себе на работу.
Но теперь уже все по-другому. При переходе в «Комсомолец» с телевидения-радио меня увлекали исключительно профессиональные и творческие интересы: более общественно значимая деятельность, работа с письменным словом плюс занимательная должность ответсека большой газеты. А уходить из «Комсомолки», самой содержательной по тому времени и наиболее творческой в стране газеты? Да, конечно, был у меня, как у всех тогда газетчиков, некий пиетет перед жрецами крупных журнальных форм. Но ведь – «Комсомолка»…
Признаюсь откровенно: тогда, в тридцать два года, во мне впервые возобладали меркантильные интересы. Моя зарплата зав. отделом фельетонов и культуры быта составляла двести тридцать рублей. Плюс незначительные газетные гонорары. В наш домашний бюджет, конечно, вливались небольшие корреспондентские денежки Галины (без них было не обойтись). Все вместе это и создавало «беспечное» материальное содержание семьи из четырех человек.
«Журналист» за первоначальную должность заведующего отделом предложил сразу триста двадцать. Леша Плешаков, наш еще ростовский друг, тоже работавший в «Комсомолке», а в то время уже – сотрудник журнала «Смена», большущий, можно сказать, огромный человечище, зайдя в нашу редакцию, прогрохотал чуть ли не на весь этаж:
Читать дальше