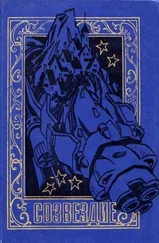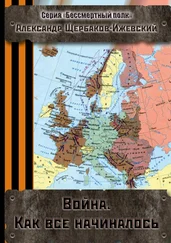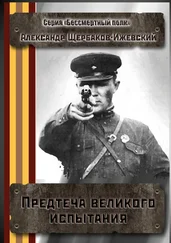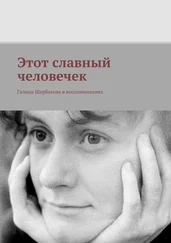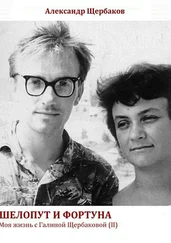Но хитом у нас был «Заветный камень» Бориса Мокроусова, сочиненная в лучших традициях советской песни мелодия, прихотливая, но удивительным образом сразу ложащаяся и на слух, и на душу. Любые наши музыкальные досуги заканчивались требованием: «Про камень!» А это была весьма печальная история. Последний защитник Севастополя, израненный, с куском гравия (или гранита), захваченным в последний момент на берегу, в утлой шлюпке уходит в открытое море. Но…
Друзья-моряки подобрали героя.
Кипела волна штормовая.
Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая…
Начиная со слов «посиневшей рукою», малыш начинал сглатывать слезы, а в середине следующего куплета уже не мог их сдержать. Он переживал, как сказал бы Аристотель, катарсис. Я не видел в этом ничего плохого и повторял эту песню, как впоследствии Кобзон «Не думай о секундах свысока», – по первому требованию.
И кто бы мог подумать, что это наше развлечение вдруг сослужит нешуточную службу. Однажды в дверь постучали, и появилась комиссия от инспекции по правам детей, состоявшая из двух дородных дам. Ее задачей было дать заключение, с кем из родителей ребенку будет лучше и, соответственно, на чьей стороне будут на суде органы народного образования.
Меня там не было, а была Аида Злотникова, бывшая Галина ученица, переехавшая из Челябинска вслед за любимой преподавательницей. По ее восприятию, на посетительниц произвело не очень хорошее впечатление, что тут, еще до завершения бракоразводного процесса, живет другой мужчина. Еще большее их недоумение вызвало то, что мальчишка зовет его папой.
– И что вы с новым папой делаете? – спросили они у Сашки.
– А ничего. Песни поем.
– Какие?
– «Шумел сурово брянский лес», про камень.
– Про какой камень?
И бойкий парнишечка стал растолковывать двум инспекторам, как каким-нибудь недоумкам, что была война с немцами, что был герой-моряк и что он камень сжимал посиневшей рукою…
Больше никаких инспекторов к нам не являлось, и даже ни на какой суд нас не вызывали, все решили в наше отсутствие.
Такая была сила в патриотических строфах Анатолия Софронова и поэта Александра Жарова.
…Как безотчетное чувство ко мне сплавило сердца моей мамы и моей избранницы, так меня и Сашку скрепили до последнего дня моя любовь к Гале и его сыновнее обожание матери.
Вот сценка, запечатленная во мне тоже навсегда. Вечер, мы все трое в общежитской каморке, усталые, ничего не делаем, я сижу на кровати, Галя за столом, Сашка – тоже, рисует. Вечернее умиротворение, мгновения тишины, о которых иногда мечтается. Сашка, прервав свое занятие, внимательно смотрит на Галю. И вдруг говорит:
– Сидит такая кисонька, ручки сло́жила и смотрит…
Нет в мире таких букв и нот, чтобы можно было передать чувство, которое в те секунды переполнило эту душу, умиленную самой чистой на этом свете любовью, описать интонации детского голоса, непроизвольно выдавшего вдруг нахлынувшую признательность.
У нас не было еще свидетельства о браке, не было жилья, денег, даже точного намерения, где обитать… И вдруг эта детская фраза – «Сидит такая кисонька, ручки сло́жила и смотрит», – породила во мне такое прочное и благодатное ощущение семьи… Оно уже никогда и не уходило.
Помните школьный учебник? Там в разделе органической химии много формул, показывающих, из чего состоят вещества. В основе всегда соединения-радикалы. Ну, радикалы как радикалы. Но если в формуле связать их палочками-стрелочками, они из сборища прилепившихся друг к другу атомов обращаются в портрет молекулы реально имеющегося в природе вещества. Ибо палочки-стрелочки рисуются не для красоты, а показывают объединение дотоле неизвестно для чего нарисованных радикалов.
Сашка своим детским языком взял и провел между всеми нами палочки-стрелочки, показав нашу прямо-таки ядерную связь. Были радикалами, стали молекулой.
«Среди разных бумаг на верхней полке лежит у меня одно тайное письмо, – так начинается мой очерк, написанный в первую половину «нулевых» годов. – Собираясь рассказать эту историю, хотел достать его. Но подумал: зачем? Главное там для меня – первая страничка. А я ее и так помню».
Написал я этот очерк и… не отдал ни в какую редакцию. Сегодня я кое-что изменил бы в том тексте, как-никак автор, имею право. Однако это сломало бы сам принцип сочинения этих мемуаров: я свободен в своих мыслях – но только по поводу бесспорных, в моем профессиональном журналистском понимании, фактов. То, как тогда написалось, – факт, к тому же по времени расположенный ближе к происходившим событиям. Так что этот очерк и для меня самого подобие, ну не машины времени, а, скажем так, маленькой машинки, самоката…
Читать дальше