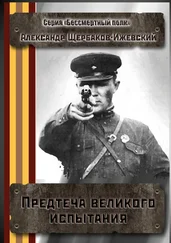Так вот откуда, может быть, и пошла вся дичь с хроническим неуклонным исполнением… «о мерах по дальнейшему…». У нас ведь до сих пор в кремлевских лабиринтах, куда ни кинь, попадешь в вещие заветы то ли Сталина, то ли Ленина, а то еще и какого-нибудь, прости господи, Дзержинского… Короче, потеря зарегистрированных писем трудящихся – и где, в редакции! – вполне могла быть приравнена, ну, скажем, к утрате членом КПСС партбилета или каким-то учреждением – Красного знамени с прикрепленным к нему орденом Ленина, что и случилось когда-то с одной уважаемой газетой. Так что с Галиной в начале ее второго пришествия в Ростов вышла не просто неприятность, а, можно сказать, катастрофическое ЧП. Если Сталин за пренебрежительное отношение к письмам давал по шапке даже крупным руководителям, то что стоило любому власть имущему прогнать в шею только что принятого полставочника? Это как раз и было бы надлежащим исполнением долга перед Родиной, «вытекающего» из Постановления ЦК КПСС «О мерах…».
Зачем Галя потащила эти злосчастные письма из редакции? Чтобы дома на их основе соорудить так называемый газетный обзор писем. Эта цель мне и подсказала плодотворную идею спасения. Нужно-таки сделать запланированный обзор – и тогда письма будут чохом списаны в книге учета как использованные в публикации в таком-то номере от такого-то числа. А дальше они могли сколько угодно храниться у автора обзора – для их, по его усмотрению, какого-то еще творческого употребления.
Как сделать обзор писем без писем? Галя этого не знала. Я знал. Вернее, придумал авантюру в духе Остапа Бендера. Однако, чтобы ее осуществить, мне необходимо было рабочее место. Я тогда жил в заводской гостинице «Ростсельмаша», где в комнате было еще два человека, то есть писать ночью там было невозможно. Как ни крути, оставалось одно место – жилище Режабеков.
Они тогда снимали убогий флигелек, состоявший, по сути, из одного помещения. Оно было разделено сатиновой занавеской на «комнату» с окном и маленький закуток – «кухню» с «лампочкой Ильича». Вот в нем-то, этом закутке, я и расположился.
Для начала по-быстрому набросал «письма» на модную по тому времени тему (какую, не помню, врать не хочу), стараясь разнообразить стиль, подходы – от почти научного до откровенных глупостей, маленько перевоплощаясь то в наивную девятиклассницу, то в ригоричного старого большевика и т. д. А потом стал лепить обзор этих писем. И, между прочим, увлекся, стал выстраивать некую как бы концепцию явления (ох, вспомнить бы какого!).
К утру материал был готов, и я как творец был горд им. Галя подписала его каким-то псевдонимом, через несколько дней он вышел в газете и на редакционной летучке был назван в числе лучших… Я был доволен. Главное – сумел стать спасителем любимого человека. Не это ли в грезах всякого влюбленного – самая желанная мечта? Признание же моего обзора достойным доски почета отчасти сгладило мои огорчения из-за того, что я нарушил сразу несколько собственных принципов.
Во-первых, я где-то прочитал, что молодой папа Хэм считал: никто не должен видеть, как пишет журналист, тот всегда должен появляться в свете только с готовым материалом. Отступление в ту авральную ночь от этого «шикарного» устоя мне казалось самой обидной потерей. Еще я, конечно, ну никак не желал видеть мужа Галины. Пришлось. Увы, меньше всего я страдал – но все же страдал! – от того, что газета благодаря моим талантам представила фиктивные мысли фиктивных человеков. Где, когда в меня проник вирус профессионального цинизма? В молодежке? В многотиражке? В университете? В «Красноуральском рабочем», куда начал писать с седьмого или восьмого класса? Это свойство – как плесень на потолке в ванной. Появившись, окончательно никогда не изводится, каким бы средством для этого ни пользоваться.
Впрочем, не будем углубляться в проблему… Историей с украденными письмами начинается, можно сказать, воистину «судьбоносная» тема.
Снова «Комсомолец». Но уже «Комсомолец»-2, ростовский.
…В 1999 году Галина дала интервью, в котором, чуть иронизируя, рассказала о своих отношениях с амбициозным литературным журналом «Новый мир», с которым у нее был «давний и трогательный «роман». Он начинается так: юная как бы курсистка (это я) полюбила пожилого как бы профессора («НМ»). И, как сказала бы моя мама, «засохла на корню». Все свои первые литературные опыты я посылала только «профессору»…Профессор… лепил мне двойки и мои притязания холодно отвергал.
Читать дальше