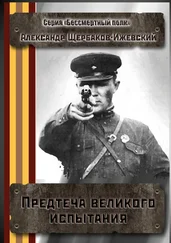Ну почему, почему они не дали мне тогда своего хлеба с салом, не дали водки?
Чушь собачья эта легенда о безграничной щедрости народа. Может и не подать, еще как может не подать!
– Нечего давать! Нечего давать! – кричала моя бабушка побирушкам, а мама движением фокусника закрывала полотенцем еду на столе.
(Сейчас поковыряюсь и насобираю факты доброты и отзывчивости. Сейчас, сейчас…)
…Приземлилась в городе, где жила одна знаменитая бригада, которая объявила всем, всем, всем о том, что живет по законам будущего.
Смех! Они тогда жили будто бы по законам нашего сегодня?
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Так все и было.
Прелесть что за парни.
Мы играли в интервью, как дети. Они сами задавали себе вопросы. Сами отвечали.
Говорили: «Запишите, мы хорошие, спасу нет. Факты? Пожалте».
Блокнот распухал от светлого будущего, воплощенного в мускулистых парнях. Можно было жить спокойно, раз такие парни существовали. Они читали Хемингуэя. Они знали все про все. На такой группе А не то что группу Б можно было воздвигать, а весь алфавит взгромоздить было не страшно.
…Фу! Как я распалилась! Чего, спрашивается? Хорошая была бригада? Хорошая! Работали они как следует? Работали. Носили больным яблоки и мандарины зимой? Носили. Обсуждали все вместе фильм «Летят журавли»? Обсуждали. Оценили движущуюся камеру Урусевского? Оценили. Дарили девушкам цветы? Дарили.
Невозможно было представить, что всего за триста километров от них на грязном полу сидят закаменелые мужики и пьют водку в такой молчаливой сосредоточенности, будто постигают мироздание.
А вдруг постигают?
Но я их вычеркнула из памяти, этих мужиков. Я забыла о холодной тоске, что сидела у меня на коленях в самолете.
Я перепрыгивала через какие-то железки, смотрела, как бежит металл, думала о том, что если в него прыгнуть… Это были холодяще веселые мысли о смерти, в присутствие которой, в сущности, не верилось. Подумаешь, смерть…
Придут парни, завернут рукава, им всандалят в вену иглу, отсосут кровь, и ее хватит на тысячу таких, как я.
Я ничего про них не знаю.
Могла бы узнать, но не хочу.
Хочу думать, что именно они остались, эти парни. Все еще ходят в вечернюю школу и обсуждают камеру Урусевского.
Черномор же в Москве. У него сто двадцать кэгэ чистого веса и давно уже нет шеи. Я его вижу по телевизору. Он выступальщик на разные темы. От него веет тоской и холодом.
Ну и хрен с ним!
Материал же, который я написала, был одним из многих в ряду подобных. Из него вычеркнули мой пассаж об огне («при чем тут это?»). И правильно вычеркнули. И никому не ясную параллель с некоей застывшей и не желающей меняться человеческой природой, которая живет за триста километров. («Это ты о чем, подруга? Что за мелкая философия?») И, конечно, мысль о будто бы отдаваемой крови. («Кому?! И зачем?! Они что – доноры?»)
Но кое-что оставили. Безграничность снегов под крылом самолета. Безграничность возможностей. Про сидевшую у меня на коленях тоску я не писала. Это был мой изъян. Моя тугоухость и кривоглазость, а также хромота и горбатость.
Время же рядилось в красоту».
Через несколько дней после того, как напечатали очерк Галины, в редакции появился тот самый «дядька Черномор». Фамилия у него была, дай бог памяти, Иванов, красивый самодовольный мужчина, сменный мастер металлургического комбината, один из главных идеологов движения коллективов коммунистического труда. Битый час, сидя у стола Галины, о чем-то краснобайствовал, а после подарил ей книжку с репродукциями картин какого-то советского художника.
– О чем говорили-то? – спросил я потом у Гали.
– А! – отмахнулась она. – В ресторан звал.
Много лет спустя, в Москве, я искал в нашей домашней библиотеке иллюстрацию к тексту и наткнулся на эту книжку. Она оказалась с надписью. Обычное пошлое пожелание красивой женщине любоваться красотой искусства. Меня возмутило само дарственное обращение: «Моему маленькому корреспонденту…» Но… серчать было уже поздно. Я просто изъял этот экземпляр из нашего художественного собрания, забросив его на какую-то хозяйственную полку. Когда уже писал вот этот текст, решил взглянуть на него, вспомнить, какой художник там представлен. Но не нашел. Далеко, видно, забросил. Как это у Глинки с Кукольником: «И тайно, и злобно оружие ищет рука…»
Из Челябинска – в Свердловск
Дорогой мой! Честное слово, я не на шутку беспокоюсь, ибо твои умственные возможности явно ущерблены отчаянным авралом. Это мне стало известно из твоих чудесных писем, в которых я сумела найти все: миндаль, присущее тебе остроумие, философский подтекст и даже глубину житейских раздумий; но не нашла, увы, как ни старалась, ответа на самый главный для меня вопрос: КОГДА ЖЕ ТЫ ПРИЕДЕШЬ? Вот я и забеспокоилась: о чем может говорить это катастрофическое неумение выделить главное? Признайся, что ты систематически маешься головой, и я все тебе прощу. Иначе… Иначе я буду гневаться! Вот!
Читать дальше