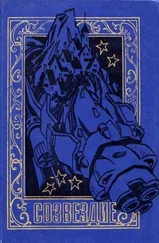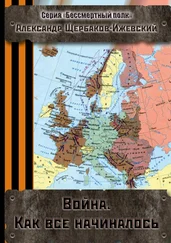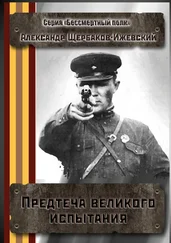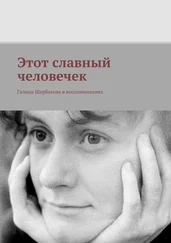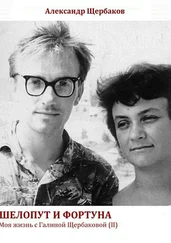Однако единственное, что в результате этого получалось – доставить пьесы в помещения театров. И только. Я по неведению и по аналогии с устройством прессы направлялся к заведующим литературной частью. Это, как правило, были столично-ироничные, ухоженные, но с вечной гримасой усталости, много курящие литературные дамы среднего возраста. Не знаю, как сейчас обстоит дело, а тогда я довольно скоро уяснил, что они не кто-нибудь, а помощники главного режиссера; они с утра до вечера заняты премьерными спектаклями; а поскольку те случаются постоянно, то чтение каких-либо иных пьес просто не их работа. Мне это было объяснено не однажды в теории. А на практике пьесы Галины лежали нечитанными, и потом их не могли хотя бы для возврата найти в беспокойном хозяйстве Мельпомены.
И как же я был приятно удивлен, когда, приехав в Ленинград, зашел в БДТ и не просто протокольно оставил две пьесы, а свел знакомство с Диной Морисовной Шварц.
Это был прием Автора . Дина Шварц, поглаживая принятые от меня рукописи, расспрашивала про меня, про Галину, про наши дела. Ей позвонили по внутреннему телефону, она ответила, пусть немного подождут, она разговаривает с автором. Заходили актеры – Стржельчик, Лебедев. Она каждому представила меня: «Может быть, наш будущий автор». Я спросил, нельзя ли купить билет на сегодняшний спектакль. «А вы просто приходите, я вам найду хорошее местечко». В тот вечер я посмотрел пьесу Лени Жуховицкого «Выпьем за Колумба!».
Впрочем, был в нашей жизни еще один завлит «с человеческим лицом». Евгения Михайловна Буромская из Театра им. Моссовета. Тихая, уже не очень молодая, интеллигентнейшая женщина. Она тоже немного порасспрашивала о нас, а потом, вздохнув, сказала:
– Вот взяли бы вы и написали пьесу про жизнь сегодняшних москвичей. А то нас упрекают: театр с таким именем, а нет ни одного спектакля о Москве.
Тут я вспомнил один ничего не значивший разговор с Галей, случившийся год или два назад. По принятому у нас «аглицкому» обычаю мы за утренним чаем читали газеты. (Вот ведь было время, между прочим, советское: почта приносила домой по утрам утренние газеты, а по вечерам – «Вечерку».) В то лето москвичи маялись от жары, и я прочитал подборку сообщений на эту тему, от полутрагических до смешных, и сказал Галине:
– Возьми и напиши пьесу с замечательным названием «Жара в Москве».
Надо сказать, она часто принимала от меня названия для своих сочинений. Но к советам «напиши про то-то или про то-то», от кого бы они ни исходили, всегда относилась очень кисло. Часто говорила: дай бог перенести на бумагу хотя бы три процента историй, которые крутятся у меня в голове. Так и в тот раз безразлично кивнула:
– Забавно…
А я в разговоре с Буромской взял и сказал:
– У нас есть подходящий замысел – пьеса «Жара в Москве».
…Домой вернулся окрыленный прекрасным проектом. За сутки сочинил синопсис (это мое нынешнее определение, тогда такого слова я не знал) – краткое изложение придуманной истории. Показал Галине. И мы в четыре руки стали творить то ли благую работу, то ли просто… подработку.
Сам способ складывания вещи, предложенный мной, противоречил сочинительским обычаям Галины. Она неоднократно признавалась, что едва ли не главное ее удовольствие – когда она не знает, в какую сторону при очередном повороте сюжета ее понесет повествование. Я чисто умозрительно понимал завлекательность этой игры, но сам испытал (и испытываю) ее прельстительность только раз, при работе над этой вот книгой, когда знаю: сяду снова за нее завтра – будет одно продолжение, а послезавтра – скорее всего совсем иное. Какое-то другое слово из последних двух-трех фраз зацепит не ту, что накануне, клетку памяти. И мне уже жаль чего-то ненаписанного послезавтра , потому что оно никогда не будет написано. Нельзя дважды прожить один и тот же день.
Мы продвигали «Жару в Москве» кусками. Кусок текста Галины – кусок мой. Она плела свои кружева, я всячески подгонял их под крышу синопсиса. Через какое-то время тесто стало выползать из квашни – переизбыток текста при дефиците действия. И тут позвонила Буромская: как дела? Я собрал написанное и поехал к ней. В тот день я познакомился еще с одним располагающим к себе театральным человеком. Буромская свела меня с директором театра Львом Федоровичем Лосевым. После милого разговора втроем было решено заключить с нами, авторами, договор о создании пьесы для театра.
По аналогии с завлитами могу определить и Лосева как директора с человеческим лицом. Хотя бы по сравнению, например, с Табаковым. Встретив его в «Современнике», я попросил поинтересоваться судьбой наших пьес. Он, конечно, пообещал, хотя был уверен, что никогда не станет этого делать. Однако его поведение я не мог расценить как лживое. Он ведь, будучи директором, был до мозга костей актером. И, говоря со мной, глядел сквозь меня светлым взглядом в такую невообразимую даль, при этом даря полускрытую неотразимую улыбку кота Матроскина, что любой мог уяснить: слова надо понимать с точностью до наоборот.
Читать дальше