«Оркестру все это шло во вред, — объяснял Флейшман. — Вот посмотрите, изумительный музыкант, одаренный во всем. Он заслужил уважение всего музыкального мира. И все же, что-то всегда удерживало его. Я надеялся, что возвращение к нам сможет высвободить скрытый в нем особый огонь». Лишившись двух оркестров, Превен оказался в состоянии неопределенном, он работал с оркестрами как приглашенный дирижер и записывался не меньше прежнего, однако постоянной работы не имел, а «охотники за дирижерами» обходили его стороной. «Ему пошла бы роль престарелого мэтра», — говорят друзья Превена, предлагая самые разные объяснения его раннего упадка.
Для того, чтобы ущерб, наносимый оркестрам вечным отсутствием музыкальных директоров, стал очевидным, потребовалось долгое время, и причину этого составляет поразительная компетентность профессиональных оркестров, способных работать почти с любым из тех, кто встает за дирижерский пульт. Разрыв с оркестрами оказался наиболее сокрушительным для самих дирижеров. Превена и Озаву поразило музыкальное переутомление. Куда менее приметны жертвы более молодые, успевающие перетрудиться и потерять ориентацию еще до того, как они обретают известность. Разрезанная Караяном пуповина, которая связывала некогда музыкального директора и его оркестр, захлестнула шею самой профессии дирижера и начала душить ее.
«Говорить „дирижеры не делаются, дирижеры рождаются“ очень легко, но пытался ли кто-нибудь всерьез сделать дирижера?». Этот сердитый вопрос Эдуард Элгар задал в 1905 году, когда английская музыка вышла из 200-летней творческой пустыни и обнаружила, что управлять ею некому. На симфонических концертах напыщенные профессора продирались сквозь Брамса, точно загонщики гусиной охоты; визиты Никиша или Рихтера выглядели островками чистоты посреди грязной лужи. Не было традиции, не было почвы, на которой могли бы произрасти местные композиторы. После смерти Мендельсона и ухода Берлиоза концертной жизнью Британии правили эстрадные увеселители вроде Жюльена или якобы знаменитые капельмейстеры. Главными приманками концертных и оперных залов стали вокалисты, качество аккомпанемента имело значение третьестепенное. Должное отдавалось симфонической музыке только в Манчестере, где Чарлз Халле создал для общины немецких экспатриантов названный его именем оркестр. Халле и сам происходил из Вестфалии, и когда он, проработав полвека, подал в отставку, оркестр недолгое время поэкспериментировал с дирижером-англичанином, а затем обратился, надежности ради, к Рихтеру. Местных дарований явно не хватало.
И потому можно считать лишь чудом то обстоятельство, что тридцать лет спустя Британия уже могла похвастаться четырьмя дирижерами с мировыми именами и немалым числом других, получивших пусть менее широкое, но признание. Семена, давшие эти всходы, посеяла индустрии звукозаписи, студия которой была создана в Лондоне еще в царствование Виктории и которая распространяла пластинки по городам, стоявшим на торговых путях мира. Концертная инфраструктура развивалась как сопровождение этой деятельности — концерты давались в виде рекламы записей либо только еще выходящих, либо уже поступивших в продажу. В итоге имена британских дирижеров стали привычными и в Европе, и в Америке, где их уважали за элегантность и разносторонность.
Открытых конфликтов между ними удалось избежать, проведя демаркационные линии между областями их личных предпочтений. Томас Бичем был признанным владыкой Гайдна и Моцарта, а также французского и русского репертуара; Генри Вуд распоряжался поздними романтиками и ранними модернистами; Адриан Боулт ведал Брамсом, современной английской музыкой и берговскими головоломками, а Джон Барбиролли держал в своих руках итальянскую оперу и английские пасторали. И тем не менее, за этим внешне цивилизованным фасадом бурлил целый котел возмущения и обид, подогреваемый решимостью одного человека добиться господства над всеми разновидностями исполняемой в столице империи музыки.
Бичем не был скорым на расправу тираном вроде Тосканини, не стремился, подобно Малеру, к недостижимому совершенству, он был очень английским аристократом, правившим с отеческим шармом, а зубы показывавшим, лишь когда ему совали палки в колеса. Томас Бичем был человеком мягким, благодушным и воздействие его на музыку оказалось во многих отношениях благотворным. Но при этом он оставался несомненным диктатором и даже после его смерти присутствие злодейской эспаньолки Бичема еще долгое время ощущалось как во множестве лондонских концертов, так и в сходящей на нет счастливой фортуне созданного им оперного театра.
Читать дальше
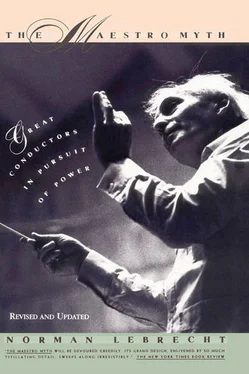


![Роберт Асприн - Удача или МИФ [= Иначе — это МИФ]](/books/204374/robert-asprin-udacha-ili-mif-inache-eto-mif-thumb.webp)







