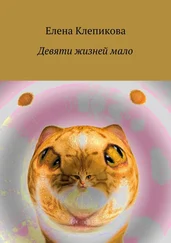– И со мной?
– А то как же! Вот недавно снилось, как Лена запросто, без напряга и стыда, признается, что спала с вами, и я безумец-ревнивец наяву (ко всем и ни к кому) спокойно это во сне воспринимаю как само собой разумеющееся. Почему нет?
– А теперь представьте, что вы просыпаетесь, и оказывается, что это вам вовсе не снилось, а на самом деле. Что тогда?
Подвох? От одной такой возможности меня передернуло.
– Да, нет, я не о себе, а вообще, – утешил он меня. И уточнил: – С другом. Что бы вы сделали?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю. Шесть лет, как не знаю.
Подумав, добавил:
– Я старше вас не на два года, а на этот вот опыт.
У Пяти углов он вышел, оставив меня в сомнениях: не о нем, а о себе. А что бы сделал я на его месте?
Такая вот история.
Если что и нуждается в комментарии, то отнюдь не сюжетные выверты и скрытые цитаты, а причины измены (опять это клятое слово!) квазирассказчицы и автора в натуре собственным же принципам двухкнижия в этом текстовом отсеке, но поддаться этому соблазну значило бы отбивать хлеб у современных и будущих историков литературы, если таковые выживут в противостоянии конкурентам.
Очевидна – по контрасту с предыдущими и последующими главами – рокировка текста Арины и текстов ИБ: в самом деле, телега впереди лошади. Как и положено эпиграфам, но не комментам. Читателю предстоит самолично решить, как соотносятся заявления ИБ и его монолог, а заодно и монологи остальных фигурантов в этой весьма рисковой четырехголосице. В отличие от других глав, в которых вымыслу положены пределы и если не каждый пассаж, то многие могут быть подтверждены самим ИБ, каковая задача и выполняется худо-бедно автокомментарием в отдельных изданиях «Post mortem», а здесь, по техническим причинам, опущенным, эти четыре потока сознания, разные даже стилистически, невозможно заземлить научными или даже псевдонаучными примечаниями и педантично привязать к документальным высказываниям тех, кому они приписаны.
Тем более реальные имена присвоены все-таки беллетризованным персонажам.
Сам этот четырехголосник – а фактически пятиголосник, считая голос комментатора (соблазнительно, пусть я кощунник, было бы по библейской ассоциации назвать его моим «Пятикнижием») – с легко угадываемыми литературными образчиками: «Расёмон» Акутагавы и еще в больше мере Куросавы, «Шум и ярость» Фолкнера и, само собой, «Семейные тайны» Владимира Соловьева, с подзаголовком «Роман на четыре голоса». В данном случае – рассказ на четыре голоса. Четыре Б – по-видимому, по аналогии с упомянутыми в тексте пятью Б (Блок, Белый, Брюсов, Бальмонт и Бунин) – это ИБ (Иосиф Бродский), МБ (Марина Басманова), ДБ (Дмитрий Бобышев) и АБ (Андрей Басманов).
Три других голоса отнюдь не подголоски главному персонажу книги, а скорее коррективы, а то и в опровержении версии, излагаемой ИБ орально и текстуально и приведенной в эпиграфах. Но и монолог мертвеца, то есть главного героя, отнюдь не тождествен один в один высказываниям его прототипа, а в ряде случаев является существенной к ним поправкой.
К примеру, если гармошка сепий с ведутами Венеции прямо заимствована из устных и печатных рассказов ИБ – «…девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рождения набор открыток с рисунками сепией, который ее бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции, и я корпел над ними с лупой», – то его земное и заземленное (в данном случае точнее было бы сказать «приводненное») понимание метафизической цитаты из Библии «Земля же была безвидна и пуста; и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою» – выправлено в соответствии с его предполагаемым потусторонним опытом. В самом деле, предположить, что «если Он носился над водой, то значит, отражался в ней» – изустное заявление ИБ, подтвержденное им в венецейском эссе: «В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать»
(«Fondamenta degli Incurabili»), – такой подход слишком материалистичен для метафизика, коим ошибочно все-таки полагал себя ИБ. Наделенный новым опытом, ИБ в своем загробном монологе сам себя как бы поправляет, когда говорит, что смятенный дух носится над лагуной не отражаясь в ней, и еще пару раз варьирует это свое посмертное наблюдение. В самом деле, кто может быть большим метафизиком, чем мертвец? У него нет другого выбора.
Монолог ДБ, в свою очередь, начинается эпиграфически – со стихов Дмитрия Бобышева, в которых выражена иная, его собственная версия на тему «обожались и обжимались», и даже стилистически выстраивается под этого реального прототипа (один из ориентиров – классный бестиарий Дмитрия Бобышева – Михаила Шемякина «Звери св. Антония», подаренный мне одним из них), хотя и не в такой цитатной зависимости, как речь главного персонажа романа. И вообще семантическое наполнение монологов – в частности, монолога ДБ – принадлежит, конечно, нам с рассказчицей, а не прототипу, и зависимо разве что системой образов молодого, питерского Бобышева, а не поворотом сюжета. Ключевой образ – с подожженными Мариной Басмановой в новогоднюю ночь занавесками – не только вычитываем из приведенных в эпиграфе стихов Бобышева («Тот новогодний поворот винта, когда уже не флирт с огнем, не шалость, с горящей занавеской, но когда вся жизнь моя решалась»; «Но как остановились эти лица, когда вспорхнула бешеная птица в чужом дому, в своем дыму, в огне…»), но и подтвержден независимыми источниками. Галина Шейнина, например: «Накануне этого Нового (1964) года Бобышев предупредил, что приедет с девушкой. Девушка оказалась Мариной Басмановой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу