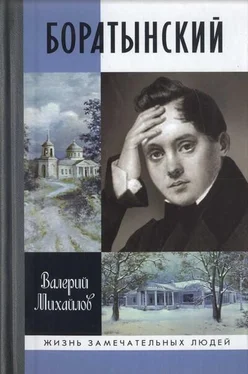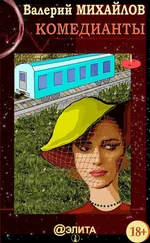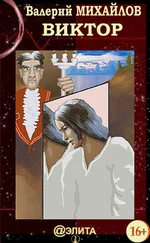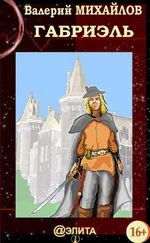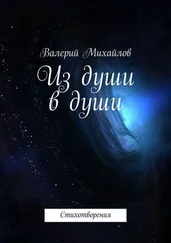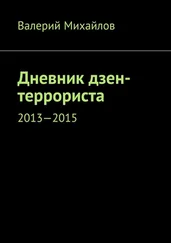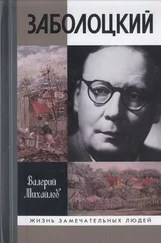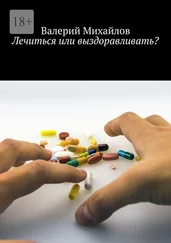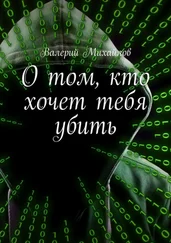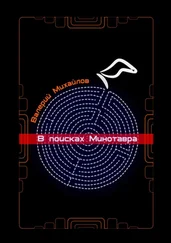Но не сомнительно ли счастье, оказавшееся мизантропическим?
«Хотя хорошо за границей, я жажду возвращения на родину. Хочется вас видеть и по-русски поболтать о чужеземцах».
За полгода в Германии и Париже он вполне ясно понял отличие французского света от русского и, несмотря на всё занимательное и отличный приём, пришёл к твёрдому выводу:
«<���…> жизнь в чужих краях тем особенно прекрасна, что начинаешь больше любить своё отечество. Благоприятства более тёплого климата не столь велики, как думают, достижения цивилизации не столь блестящи, как полагают. Жители, коих я видел доселе, не стоят русских ни сердцем, ни умом. Они тупы в Германии, без стыда и совести во Франции, прибавьте к тому, что французы большие мастера только лишь в дурачествах <���…>».
И наконец:
«Я вернусь в своё отечество исцелённым от многих предубеждений и полным снисходительности к некоторым действительным недостаткам, которые у нас есть и которые мы с удовольствием преувеличиваем <���…>» (из письма А. Ф. Боратынской, около 10 апреля 1844 года; перевод с французского).
Знакомство с парижскими писателями получилось шапочным , а общение — поверхностным: понятно, это никак не могло удовлетворить Боратынского. Графиня де Сиркур всячески пыталась заинтересовать мэтров французской словесности русским писателем, однако её усилия вряд ли были успешными. Сохранилась записка Альфреда де Виньи к госпоже де Сиркур, по которой хорошо видно, что его отношение к Боратынскому не больше, чем светская вежливость:
«<���…> Я буду рад видеть поэта, пришедшего от вашего имени и столь ценимого вами. Но вот для меня новый повод сожалеть о незнании русского языка, с которого у нас так редко переводят. Я часто сокрушался об этом, ибо у меня есть друзья в его стране и мне хотелось бы услышать этих милых варваров на их родном языке. Но кто лучше их говорит на чистейшем французском? — Г-н Евгений Баратынский может пожаловать завтра или когда угодно, сударыня <���…>».
«Милые варвары», прекрасно говорящие по-французски…
Ещё была на памяти война 1812–1813 годов, когда «цивилизованная» наполеоновская армия убивала, грабила, жгла, насильничала в русских городах и селениях, кощунствовала и пакостничала в православных храмах… А вот русские войска, погнавшие врагов прочь и взявшие Париж, отнюдь не ответили тем же, хотя вполне имели право отомстить. Москва была сожжена — Париж уцелел. Победители проявили милость к побеждённым. Император Александр I во всеуслышание заявил, что враг у него не французский народ, а лишь один Наполеон. Но и этот урок благородства, данный царём и его войском, не переменил у французов тона: русские остались в их бытовом сознании — варварами…
Гейр Хетсо пишет: «Несмотря на большой интерес, проявляемый французами к русской литературе, несмотря на то, что Баратынский уже с середины 1820-х годов был известен во Франции как один из русских „litterateurs distingués“ Отличных писателей>, несмотря на то, что некоторые из его стихотворений были уже переведены на французский язык, нам не удалось найти у французских поэтов ни одного высказывания о Баратынском. Показательно, в частности, что Проспер Мериме, большой ценитель русской поэзии, не упоминает Баратынского в своих многочисленных письмах, относящихся к тому времени. Анри Монго с сожалением констатирует, что мы ничего не знаем о том впечатлении, которое произвела на Мериме встреча с Баратынским <���…>».
Разумеется, скромный по натуре поэт попросту не мог «выказывать» себя, но очевидно и другое: для «большого ценителя русской поэзии» эта встреча была не больше, чем банальный эпизод его светской жизни. Не оттого ли чуткий и проницательный Боратынский, понимая такое отношение к себе, был в парижских салонах не более чем «холодным наблюдателем» (как он сам себя определил в одном из писем Путятам).
Сиркурам искренне хотелось представить стихи Боратынского парижскому читателю: граф уговорил поэта перевести что-то из своих произведений на французский язык. Боратынский выполнил эту просьбу, но с одним условием: ни в коем случае не отдавать его переводы в печать, как того желал граф де Сиркур. Конечно же, для поэта было совершенно неприемлемо самому выступать «пропагандистом своего слова»: таковым он никогда не был и в России. К тому же свои стихи он переложил прозой. Всё это, конечно, было сделано из признательности к Сиркурам и предназначалось как бы «для внутреннего пользования».
Читать дальше