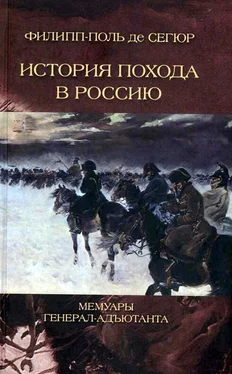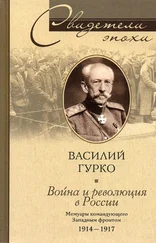Император объехал поле битвы. Никогда еще ни одно место сражения не имело такого ужасного вида! Всё способствовало угнетающему впечатлению: угрюмое небо, холодный дождь, сильный ветер, обгорелые жилища, разрытая равнина, усеянная развалинами и обломками, а на горизонте унылая и темная зелень северных деревьев. Везде виднелись солдаты, бродившие между трупами и искавшие какого-нибудь пропитания, даже в ранцах своих убитых товарищей. Ужасные раны — русские пули были толще наших, — молчаливые бивуаки, нигде ни песен, ни речей, унылое безмолвие, царившее кругом, — вот что представляло это поле!
Около штандартов еще стояли уцелевшие офицеры и унтер-офицеры да несколько солдат — едва столько, сколько нужно для защиты знамени. Одежда этих людей была изодрана, лица, испачканные кровью, почернели от порохового дыма, и всё же в своих лохмотьях и среди окружающего их бедствия и разрушения они сохраняли прежний горделивый вид, и при виде императора даже раздались крики торжества. Но крики всё же были редкими.
Французские солдаты не обманывались. Они изумлялись тому, что так много врагов было перебито, так много было раненых — и так мало пленных! Не было даже восьмисот! А только по числу пленных судили о победе. Убитые же доказывали скорее мужество побежденных, нежели победу. Если остальные могли отступить в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была в том, что поле битвы осталось в наших руках? В такой обширной стране, как эта, разве не хватит русским земли, чтобы сражаться?
Среди этой массы трупов, по которым приходилось ехать, чтобы следовать за Наполеоном, нога одной из лошадей наступила на раненого и вырвала у него крик, последний признак жизни и страдания. Император, остававшийся до сих пор безмолвным и подавленный видом такого количества жертв, не выдержал на этот раз. Кто-то, чтоб успокоить его, заметил, что это русский солдат. Но император с живостью возразил, что после победы нет врагов, а есть только люди! Затем он разогнал офицеров, сопровождавших его, приказав им оказать помощь всем тем, чьи крики раздавались в разных концах поля.
В особенности много раненых было найдено в глубине рвов, куда было сброшено большинство наших и куда многие дотащились сами, ища защиты от врага и от урагана. Некоторые со стоном произносили: «Франция…» — или звали свою мать. Это были самые молодые. Старые же воины ожидали смерти с равнодушным или злобным видом, не произнося ни просьб, ни жалоб. Другие, впрочем, умоляли, чтобы их прикончили сразу. Но мольбы этих несчастных оставлялись без внимания, и мимо них быстро проходили, так как ни у кого не хватало духу прикончить их и никто не чувствовал бесполезного сострадания, не умея оказать им помощь!
Впрочем, один из этих несчастных, самый изувеченный (у него оставалось только туловище и одна рука), казался таким воодушевленным, полным надежды и даже веселости, что решено было попробовать его спасти. Когда его перенесли, то обратили внимание, что он жалуется на боль в членах, которых у него уже не было. Это часто наблюдается у калек и, по-видимому, служит еще одним доказательством целостности души, которая одна только может чувствовать, в отличие от тела, неспособного ни чувствовать, ни страдать.
Можно было заметить раненых русских, которые тащились к таким местам, где груды мертвых тел могли дать им какое-нибудь убежище. Многие уверяют, что один из этих несчастных прожил несколько дней в трупе лошади, разорванной гранатой, внутренности которой он глодал. Некоторые из раненых выпрямляли свои раздробленные ноги, крепко привязывая их к какой-нибудь древесной ветви и пользуясь другой вместо палки, чтоб дотащиться таким образом до ближайшей деревни. И они тоже не издавали ни единого стона!
Возможно, что вдали от своих они не рассчитывали на сострадание, но верно и то, что они более стойко переносили боль, нежели французы. И это не потому, что они мужественнее переносили страдание. Они действительно страдали меньше, были менее чувствительны как в физическом, так и в умственном отношении — следствия менее развитой цивилизации и закаленности организма.
Во время этого печального смотра император напрасно пытался тешить себя иллюзиями, вновь подсчитывая число пленных и трофеи: семьсот или восемьсот солдат неприятеля вместе с двадцатью разломанными орудиями — всё, что мы взяли в результате этой неполной победы.
Между тем Мюрат продолжал гнать русских до самого Можайска. Дорога была совершенно чистой. Увидев Можайск, Мюрат мысленно им завладел и послал сказать императору, что он может приехать туда ночевать. Но русский арьергард занял позицию за пределами городских стен, а остатки их армии расположились на высотах за городом. Оттуда они прикрывали Московскую и Калужскую дороги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу