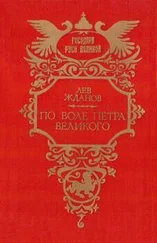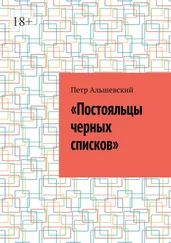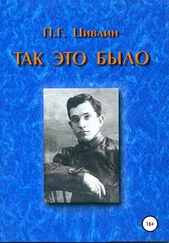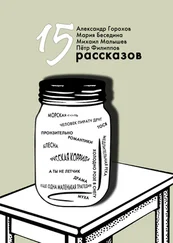Члены ГКЧП к тому времени поняли, что армия не будет стрелять в народ. Егор Гайдар в своей книге «Смуты и институты» [4] Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. — URL: http://www.ru-90.ru/content/publikacii-gaydar-smuti-i-instituti.
приводит примеры из российской истории, когда власть вдруг обнаруживает, что нет ни одного взвода солдат, готового встать на ее сторону. И тогда она рассыпается, как карточный домик. Так было в дни февральской революции и октябрьского большевистского переворота в 1917 году. То же произошло и в дни неудавшегося переворота ГКЧП. В момент смуты властям не помогает и приличное жалование своим охранникам. Так пал Чаушеску, ушел Ярузельский, сбежал Янукович. Но странно, этот опыт не убеждает авторитарных правителей в тщетности усилий удержать недовольный народ в узде. Видимо, каждый познает это лишь на своем опыте.
Критикуешь чужое, предлагай свое. Предлагая — делай.
Сергей Королев
Многие убеждены: чтобы решить проблему, достаточно принять хороший закон, указ или постановление. Это заблуждение, химера под названием «нормативный фетишизм». Принятый парламентом закон и указ президента — всего лишь текст на бумаге. Если он не впишется в существующие традиции, не станет повсеместной практикой, то так и останется только текстом. Но бывают ситуации, когда принятие нормативного акта играет роль «спускового механизма». Общество уже готово жить иначе, но ему не хватало лишь сигнала «сверху». Людям нужно знать, что это «уже можно», «за это не накажут», «милиция приставать не будет», «чиновники донимать не станут». У граждан появляется уверенность, что они все правильно делают. Это хорошо проявилось на двух указах президента — о либерализации цен и о свободе торговли. Первый отменил в России государственное регулирование цен на большинство товаров со 2 января 1992 года, с этого момента они стали договорными, возник рынок и конкуренция. Второй был подписан Ельциным через месяц.
Трудно найти другое нововведение, которое так сильно ударило по чувствам советских людей. За годы советской власти они привыкли, что на один и тот же товар цены во всех магазинах одинаковы, будь то центр города или его окраина. Одежду, ткани, обувь, автомобили и все другие товары государственные магазины обязаны были продавать по ценам, утвержденным Государственным комитетом цен. (В 1991 году исключение из этого правила действовало только для сельхозпродуктов, реализуемых частниками на колхозных рынках, и народившихся недавно кооперативов.) Фиксация цен так глубоко вошла в сознание народа, что их освобождение вызвало сначала оторопь: «Как это так? Куда писать, кому жаловаться?».
Когда Указ президента о либерализации цен был опубликован, мы предполагали, что на рынке автоматически установится равновесие спроса и предложения, в магазинах товары появятся. Однако ситуация менялась очень медленно. Реформа уперлась в психологию. Накопленные про запас товары оставались в шкафах россиян и не попадали на рынок. Люди не решались от них избавиться, не знали, как это сделать, не верили, что при свободных ценах в магазинах наступит изобилие. Годы советской власти не прошли даром, и сложившийся за это время менталитет мешал запустить механизм рыночного равновесия. Более того, такое массовое поведение грозило резким скачком цен, гиперинфляцией.
Первым попытался повлиять на поведение людей Ленсовет. По предложению депутатов Михаила Киселева и Григория Томчина он принял постановление, разрешившее гражданам свободно продавать свои запасы, где угодно, хоть на тротуаре. Идея показалась нам разумной, мы стали готовить проект аналогичного указа президента. Мне выпала честь быть и соавтором этого указа, и его «толкачом».
Любой проект указа президента по установленной процедуре подлежит согласованию с министерствами и ведомствами, с Правовым управлением Администрации президента. Когда Егор Гайдар ознакомился с первоначальным вариантом и запустил его по кругу согласований, пошли разгромные резолюции. Предсказывали, что его реализация «заблокирует центр Москвы», «приведет к резкому росту преступности», «ввергнет страну в хаос и анархию». Особенно яро выступали против ведомства, которые до либерализации цен распределяли дефицитные товары. Я встречался с министрами, начальниками департаментов, уговаривал, требовал снять возражения. В конце концов, в первых числах февраля 1992 года указ вышел в той редакции, в какой нам удалось его протолкнуть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
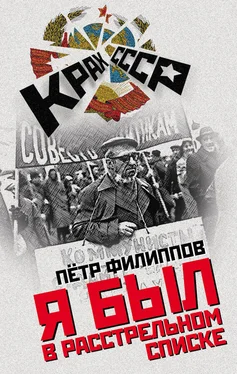
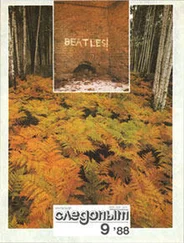
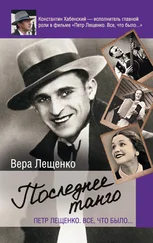
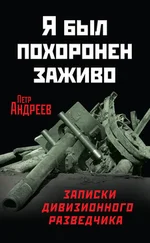
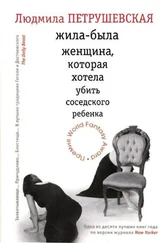

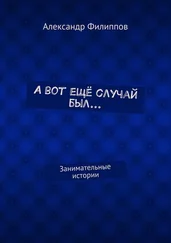
![Петр Ингвин - Зимопись. Книга первая. Как я был девочкой [AT, с илл.]](/books/400255/petr-ingvin-zimopis-kniga-pervaya-kak-ya-byl-devo-thumb.webp)